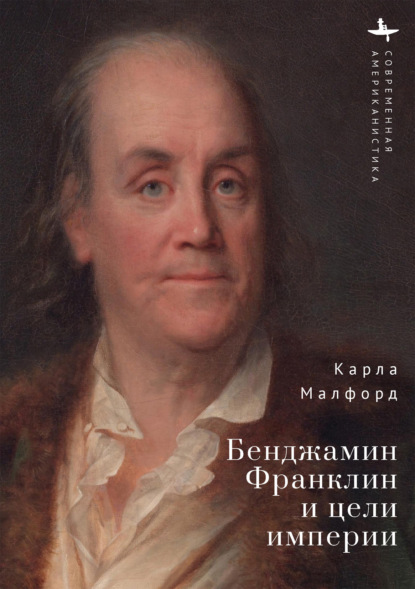Полная версия
Рабство, театр и популярная культура в Лондоне и Филадельфии, 1760–1850
Но возможные масонские элементы постановки «Духа независимости» с его величественной освещенной сценографией имели такое же отношение к его историко-мемориальной функции и происхождению автора, как и его визуальной символике в чистом виде. Драматург Уильям Данлэп, известный как «брат-масон», был одним из многочисленных живописцев и артистов, привлеченных к членству в международном масонском движении и прославлению искусств [Bullock 1996: 154–155]. Эти взаимосвязанные ассоциации имели скрытый подтекст, исключавший участие темнокожих граждан в устройстве политической системы. Разумеется, в Филадельфии существовали так называемые черные масонские ложи, но, когда Абсалом Джонс, Ричард Аллен, Джеймс Фортен и другие учреждали эти сообщества, они делали это вопреки отказу белых лож принимать темнокожих членов или давать им право на самоорганизацию [Nash 1988: 218–219]. Филадельфийское масонство явно имело претензии на исключительность. Между тем в Вашингтоне полным ходом шло строительство Капитолия, другого храма Свободы, имевшего прочные ассоциации с Джорджем Вашингтоном, франкмасонством и расовой избирательностью. Джордж Вашингтон, который сам был масоном, заложил краеугольный камень в фундамент Капитолия в церемонии масонского обряда, но здание, кирпич за кирпичом, воздвигли именно рабы [Scott 1995: xiii; Luria 2006: 32]. Правда, секретарь Джеймса Мэдисона жаловался на «отвратительное зрелище подневольных негров», строивших главное государственное здание нации, основанной на принципах свободы и демократии64. Филадельфиец Джесс Торри тоже ужасался использованию рабского труда при строительстве Капитолия, осуждая «несоответствие между воздвижением этого великолепного… достойного преклонения храма свободы и одновременно жестоким угнетением и рабским ярмом… для… африканских братьев» [Torrey 1817: 37; курсив в оригинале]. «Дух независимости» с его «образцовым» храмом Свободы был тесно связан с Данлэпом, сооружением Капитолия и почитанием Вашингтона, который фигурировал в этой постановке как «бюст президента Соединенных Штатов». В свою очередь, Вашингтон, Данлэп и храм Свободы были связаны с масонством и его практикой расовой избирательности. И пока рабы строили реальный храм Свободы, свободные темнокожие американцы были отстранены от государственной политики; эта горькая ирония эхом отзывалась в символическом удалении рабов с театральной сцены.
Аболиционизм и вопросы рабства тоже переживали не лучшие времена в национальной политике нескольких следующих лет. Запрет на работорговлю оказался пирровой победой, так как он почти не препятствовал продолжавшейся незаконной торговле рабами и растущей внутренней работорговле для нужд плантаторской экономики [Goodman 1998: 15]. За годы, последовавшие за принятием закона, публичный интерес к антирабовладельческому движению заметно уменьшился, поскольку закон, по ироничному замечанию У. Э. Б. Дюбуа65, послужил средством для «успокоения общественной совести», питая миф о том, что «рабство постепенно исчезнет после отмены работорговли» [DuBois 1904: 109–111]. В Филадельфии аболиционисты обнаружили, что общественное мнение и суды меньше вовлечены в их дело, чем раньше. Между тем одним из ненамеренных последствий их предыдущих законодательных успехов был приток неимущих темнокожих людей в городские кварталы [Davis 1975: 331]. Присутствие этих бедных иммигрантов из других штатов и беспокойство, вызванное наплывом жителей Сан-Доминго в 1790-х годах, усилили межрасовые опасения, выраженные Брениганом в бранной и оскорбительной форме, но разделяемые другими белыми филадельфийцами [Nash 1998: 56–57, 60–62].
Колумбия, мать белой республики
«Обеление» Колумбии и исключение ее освободительного потенциала для рабов произошли одновременно с развитием нового эффективного вида расовых насмешек, позаимствованных у британских «чернокожих» театральных персонажей в исполнении белых актеров для выразительной демонстрации отстранения настоящих темнокожих американцев от гражданской политики. Спад аболиционистского рвения сопровождался всплеском расистского сопротивления идее постепенного освобождения темнокожих, возможность которого, пусть даже иллюзорную, предоставила отмена работорговли. Одним из признаков этого ужесточения была неприкрытая враждебность и высмеивание попыток участия темнокожих людей в гражданской жизни. Сопротивление было как буквальным, так и метафорическим. В буквальном смысле темнокожих граждан продолжали насильно отстранять от празднеств в честь Дня независимости, что побудило одного афроамериканца к язвительному замечанию: «Разве не замечательно, что день, предназначенный для праздника свободы, был отдан на поругание защитникам независимости, дабы они могли очернять то, что якобы должны обожать?» [Forten 1951: 64]. А в фигуральном смысле белые северяне изобрели жанр театрализованного расового осмеяния попыток темнокожих людей принадлежать к гражданскому обществу, высмеивая их общественные ритуалы: поминальные гимны, парады в честь Дня освобождения, публичные тосты – все, чем они отмечали и праздновали отмену работорговли. Ради высмеивания на улицах появлялись плакаты с диалогами между двумя «черными», отмечавшими «атмену рыбства». Такое коверкание слов было типично для карикатур с использованием «черного диалекта» и заключалось в сильно преувеличенном акценте и неправильном употреблении языковых форм. В Филадельфии этот новый пародийный жанр был впервые представлен в серии карикатур «Тиклера» 19 июля 1809 года. Он получил название «литературный блэкфейс», но его также можно считать «устным блэкфейсом», поскольку исковерканные слова были особенно смешными (для белых слушателей), когда их читали вслух66. Комические диалоги были написаны в форме театральных сценариев, подразумевавших чтение по ролям67. Мишенью для этого жанра были гражданские организации темнокожих людей и их праздники: осмеянию подвергались их попытки участия в гражданской жизни Филадельфии, а их притязания на американское гражданство презрительно отвергались.
Такая исковерканная «черная речь» не являлась чем-то новым. В прошлом ее использовали театральные персонажи, изображавшие рабов в написанных британцами пьесах, критиковавших рабство как таковое, а не высмеивавших свободу для темнокожих людей. Вероятно, самым знаменитым прототипом антирабовладельческих мотивов блэкфейса и «черного диалекта» был персонаж по имени Мунго в пьесе Айзека Бикерстаффа «Висячий замок», дебютировавшей в филадельфийском театре «Саутварк» в 1769 году. Привезенная из Лондона после чрезвычайно успешной премьеры годом ранее, пьеса стала многолетним фаворитом на театральных площадках молодой республики [Bickerstaffe 1999]68. Филадельфийский театральный управляющий Чарльз Дюран подтвердил, что «постановку играли несколько раз почти каждый сезон после дебютного представления вплоть до 1800 года» [Dunlap 1832: 31; Durang 1854: 14–15]. Музыка из «Висячего замка» тоже хорошо продавалась, и песни публиковались в антологиях, газетах и журналах69. Основанная на «Ревнивом эстремадурце» Мигеля де Сервантеса, эта музыкальная комедия – короткий дивертисмент, обычно играемый после полноценной драмы, – происходила в декорациях испанской Саламанки, а ее сюжет был основан на оскорбительных взаимоотношениях между доном Диего и его африканским рабом Мунго [Tasch 1971: 152]. Стареющий дон Диего, втайне подумывающий о женитьбе на своей молодой подопечной Леоноре, держит ее под замко́м, дабы гарантировать ее целомудрие. Когда он уходит, чтобы обратиться к родителям Леоноры за разрешением жениться на ней, то запирает ее на висячий замок вместе с Мунго. Мунго помогает Леандру, будущему жениху Леоноры, перебраться через стену, чтобы побыть с ней наедине. Леандр, недавно сбежавший от алжирских пиратов, где его хозяином был «жестокий и злокозненный турок», сочувствует рабскому положению Мунго. Его упоминания систематического порабощения белых моряков пиратами-варварами у побережья Северной Африки приводят на ум известную антирабовладельческую метафору, согласно которой алжирский плен уподоблялся рабскому труду70. Хотя Мунго фантазирует о мятеже, он ждет возвращения дона Диего. Его хозяин, вынужденный признать, что заключение под замком не сломило волю его раба и предполагаемой невесты, тем не менее освобождает только Леонору. В конечном счете «Висячий замок» демонстрировал сопротивление жестоким условиям содержания в рабстве, но не освобождение от них.
Тем не менее пьеса подняла вопрос о рабстве и была первой театральной блэкфейс-постановкой на ранней американской сцене. Клоуноподобный персонаж Мунго в исполнении Льюиса Холлэма сыпал репликами из «черного диалекта», а театральные рецензии и анекдоты того времени были наполнены благоприятными сравнениями, предположительно, «аутентичного» выступления Холлэма в роли раба по сравнению с Чарльзом Дибдином, исполнявшим ту же роль в Лондоне. Дюран заявил, что «Холлэм в роли Мунго был прародителем сценического негритянского персонажа. Имея возможность изучать африканскую расу в этой стране, он гораздо лучше вжился в эту роль, нежели английский Мунго, который, вероятно, никогда не видел живого негра» [Durang 1854: 14, 29]. Драматург Уильям Данлэп соглашался с ним и утверждал, что Холлэм «наделил Мунго правдой жизни, полученной в результате изучения черных рабов, о чем Дибдин… не мог и помыслить» [Dunlap 1930, 1: 31]. Хотя Мунго был комическим персонажем, он постоянно жаловался на свое рабское состояние, переутомление и жестокое обращение, что выражалось в одной из его популярных песенок: «Мунго здесь, Мунго там, Мунго везде-везде… Господи всемогущий, ты прибрал бы меня к себе».
Такие филадельфийские драматурги, как Джон Ликок и Джон Мёрдок, по всей видимости, сделали речь Мунго образцом для реплик своих блэкфейс-персонажей рабов. В описании Ликоком бегства рабов от своих хозяев для вооруженной борьбы за Британию в обмен на свободу в его пьесе «Падение британской тирании» фигурирует мятежный вождь Куджо, чей «черный диалект» очень похож на речь Мунго. Как и Мунго, Куджо становится комичной фигурой из-за неуклюжего подражания Ликока «черному диалекту». Более поздние драматурги последовали их примеру, так что блэкфейс-персонажи в аболиционистских драмах Джона Мёрдока имитируют ограниченность и косноязычие Мунго и Куджо в своих карикатурных ролях [Murdock 1795; Murdock 1798]. В «Торжестве любви, или Счастливом примирении» (1796) Мёрдока показан первый эпизод освобождения раба на филадельфийской (или американской) сцене, где квакер Джордж Френдли отпускает на волю своего раба Самбо. В продолжении этой пьесы под названием «Политики, или Состояние вещей» (1798) недавно освобожденный Самбо обсуждает достоинства и недостатки французского и американского республиканства со своими друзьями-рабами Помпеем и Цезарем.
Хотя эти комические блэкфейс-персонажи могли высказывать антирабовладельческие взгляды, их образы были податливыми и обладали карикатурными чертами, что делало их легкой добычей для культурных пропагандистов ради использования в расистских шаржах и карикатурных уличных плакатах в насмешку над отменой работорговли [Cockrell 1997: 13–14; Nathans 2009: 44–45]. К примеру, Самбо у Мёрдока был прототипом «чернокожего» городского денди, тратящего свою свободу на пустяки и праздное времяпрепровождение [Nathans 2009: 44–45]. Получив свободу, Самбо прихорашивается перед зеркалом, любуясь своими волосами, фигурой и одеждой; такая эротизация темнокожего тела станет основной чертой более поздних блэкфейс-персонажей вроде Зипа Куна и его братьев. Мунго выражал антирабовладельческие чувства с помощью «негритянских песен» и буффонады, но критики сосредоточились на последнем. Репортер Pennsylvania Gazette подчеркивал, что «вымазанное сажей лицо Холлэма и его горящие глаза были чрезвычайно смешными»71. Мунго, Куджо и Самбо, как и их кузены Куоши, Помпей и Цезарь, были многозначными персонажами, чье смысловое наполнение зависело от контекста; театральные продюсеры сочетали в них мотивы аболиционизма, расизма и тенденциозной сатиры.
В самом деле, еще до того, как создатели устного блэкфейса стали регулярно пользоваться образом Мунго в 1810-х годах, карикатуристы вновь и вновь вводили этого персонажа для высмеивания демократических республиканцев. На федералистском эстампе 1793 года под названием «В антифедералистском клубе» Мунго находится посреди шумной толпы и слушает Томаса Джефферсона, который стоит на импровизированной трибуне и произносит пародию на монолог из Гамлета (рис. 4). Таким образом карикатура косвенно сравнивала Джефферсона с Гамлетом – героем, который стремился к достижению власти незаконными и кровавыми средствами, рискуя прийти к анархии в своем государстве. В то же время, поскольку Шекспир олицетворял британскую театральную культуру, фигура Джефферсона в образе Гамлета высмеивала гипотетическую угрозу, которую демократические республиканцы несли традиционной англофильской культуре, и преклонение перед их плебейскими сторонниками, вдохновленными идеями Французской революции. Автор карикатуры насмехался над возможным военным союзом с Францией, используя фигуру элегантно одетого Эдмона Жене, французского посла в Филадельфии, который радостно потрясает планом по свержению американского правительства72. Угроза стабильности и порядку, исходившая от народной демократии, представлена очевидно бедными «гражданами». В том числе к этому «отребью» принадлежит темнокожий мужчина в дальнем левом углу, выпрашивающий милостыню у Дэвида Риттенхауса – патриота, знаменитого астронома, ученого и члена Американского философского общества. Один из сторонников Джефферсона обращается к темнокожему человеку в дальнем правом углу «гражданин Мунго», чье присутствие заключает в себе двойную насмешку. Карикатурист воспользовался этой фигурой для предупреждения о том, что демократические республиканцы подрывают само понятие уважения, относясь к неимущим работникам, ремесленникам и даже «мунго» как равноправным гражданам, и высмеял готовность Джефферсона заручиться их поддержкой ради обретения власти. Но двое темнокожих мужчин также сатирически намекали на ангажированность партии республиканских демократов в вопросе о рабстве и ее противоречие «духу 1776 года», который она намеревалась поддерживать. Авторы многих последующих карикатур тоже пользовались образом Мунго для критики демократических республиканцев на сходных основаниях73. Когда создатели устного блэкфейса называли своих сквозных персонажей именами Мунго, Куджо, Куоши и Самбо, они опирались на мгновенно узнаваемые театральные образы рабов, уже перешедшие с подмостков в печать.

Рис. 4. «В антифедералистском клубе» (1793). Многие историки пользовались этой карикатурой для иллюстрации бескомпромиссного узкопартийного конфликта между федералистами и демократическими республиканцами. Но она также демонстрирует, насколько важную роль связующего звена в этих политических распрях, где вопрос рабства занимал центральное место, играл театр. Джефферсон произносит монолог из «Гамлета» со своей импровизированной трибуны, а присутствие «чернокожего» мятежного раба Мунго из чрезвычайно популярной музыкальной комедии Айзека Бикерстаффа «Висячий замок» бросается в глаза. Из архива Филадельфийской библиотечной компании
Первый диалог в жанре устного блэкфейса под названием «Празднество африканского общества Таммани», впервые опубликованный в 1809 году Troy Gazette (Брэдфорд, Пенсильвания) и переизданный в филадельфийском The Tickler позднее в том же году, изображал собрание вымышленного чернокожего общества Таммани в честь праздника американской независимости. Название группы отсылало к исключительно белой революционной организации «Сыновья Сент-Таммани», ответвлению «Сыновей Свободы», члены которой включали в себя Бенджамина Франклина, Джона Дикинсона, Бенджамина Раша и драматурга Джона Ликока [Cabeen 1901: 439–440]. Целью диалога было издевательство над притязаниями темнокожих людей на революционное наследие свободы и прав человека, за которое боролись «Сыновья Свободы». «Сыновья Сент-Таммани» устроили революционный заговор, присвоив имя индейского вождя Таммани из племени делавэров, который подписал мирный договор с Уильямом Пенном и стал символом американских колонистов в их притязаниях на Новый Свет. Ликок включил стихотворение о Таммани в свою прореволюционную пьесу «Падение британской тирании»: «За дело светлое свободы / Совместно борются народы, / Нам Таммани звезда сияет, / И песнь его не умирает» [Leacock 1776]. Члены общества Таммани, как их собратья-патриоты во время Бостонского чаепития, одевались как американские индейцы для демонстрации новых идей, освобождавших их от британского владычества. На своих собраниях они пользовались адаптированными местными символами и ритуалами, такими как пау-вау (индейский совет) и трубка мира, подражали индейскому красноречию и ритуальным танцам [Grinde, Johansen 1991: глава 6; Abrahams 2002: 119, 179–204]. Они также обменивались ритуальными тостами и песнями, которые затем публиковались [Abrahams 2002: 193]. Покойного вождя Таммани они героизировали как провозвестника новой эпохи, когда американцы европейского происхождения заявят свои права на Новый Свет и отвергнут Старый [DeLoria 1998: 17–18]. Члены общества Таммани серьезно относились к своей деятельности и рассматривали ее как патриотическое восхваление новой независимой нации, построенной «на крепком фундаменте естественных прав» и скрепленной «нерушимыми узами патриотической дружбы»74. Поэтому, когда диалоги африканского общества Таммани проводили связь между выселением коренных американцев и унижением свободных афроамериканцев, они не только поддерживали белую государственную политику, от которой были отстранены обе указанные группы, но и отказывали им в любых притязаниях на революционное наследие естественных прав и «уз нерушимой дружбы», разделяемых белыми патриотами.
Очевидно, что диалоги африканского общества Таммани также подкрепляли недавнее отстранение темнокожих людей от празднеств в честь Дня независимости и косвенно высмеивали их праздник Дня освобождения. Первый диалог африканского общества Таммани был посвящен «увеселению… нашего общества белых индейцев», а затем превратился в блэкфейс-ораторию, выделившую участников и цель:
В части юбилея американской независимости, которой стукнуло тридцать три годика, наше общество Таммани справит веселье 4 июля в вигваме, что у нас есть на Второй улице. Там у нас доброе логово, обустроенное Куджо и Куоши. Мы запалим костер совета, чтобы бедному негру было где погреться, раскурим трубку по кругу и отведаем жареного мясца; у нас есть добрый ром и добрая костровая яма, добрый хлеб и рыбка, добрый табак, добрая скрипка – славные посиделки и славная компания, ужо получше, чем у этих деммикратов… Дух Таммани, он был здесь, и он был страшно рад видеть наше веселье – да вот, Самбо говорит, что видит его75.
Здесь Куоши, Куджо и Самбо имитируют ритуалы «Сыновей Таммани»: встречу в вигваме, костер совета, трапезу, тосты и трубку мира. Но они исполняют эти символические церемонии фривольно и поверхностно, играя на скрипке, распивая «добрый ром» и предаваясь общему веселью. Их косноязычное празднество подразумевает, что темнокожие члены африканского общества Таммани не осознают ни важности «Сыновей Сент-Таммани» для революции, ни серьезности гражданских празднеств в честь независимости. Замечание «получше, чем у этих деммикратов» намекает на демократическую республиканскую партию Томаса Джефферсона, называвшую себя более радикально демократической, чем федералисты, в то время как большинство этой партии составляли южные рабовладельцы. Наряду с отрицанием любых притязаний темнокожих людей на революционное наследие, автор этого диалога также насмехался над участием темнокожих граждан в «белой» общественной сфере, будь то политические партии или праздник Дня независимости.
Создатели африканского общества Таммани высмеивали отстранение темнокожих людей от празднования Дня независимости. В одном из эпизодов рассказчик жалуется: «Вождь нашего общества Таммани так и не пришел… Если мы хотим быть все вместе, думаю, нам нужная длинная процессия… жалко, что мы, сыны Таммани, не договорились обвязаться большим вампумом»76. Далее следовала пародия на публичные тосты, обычные для политических и общественных мероприятий, и стандартная часть ритуальных церемоний белого общества Таммани. В другой части об исключении темнокожих людей из гражданского общества рассказчик говорит: «Если бы все общества Таммани вошли в одно общество, какое здоровенное общество у нас бы получилось!» В другом тосте содержится несколько взаимосвязанных острот с пожеланием «отмечать 4 июля дюжину раз в году», чтобы у «Сыновей Таммани» было побольше «выходных дней». Здесь авторы высмеивают желания темнокожих людей принимать участие в белом празднике 4 июля и отмечать свой День освобождения, намекая на то, что их «выходные дни» были всего лишь предлогом для пьяных гулянок и отлынивания от работы.
Этот новый жанр расовой сатиры со свободным обменом между театральной, печатной, изобразительной и общественной культурой вскоре приобрел широкое распространение с далеко идущими последствиями. Указывая на моментально вспыхнувшую популярность устного блэкфейса в Филадельфии, Tickler поспешил опубликовать новые диалоги африканского общества Таммани, как сделал и Poulson’s Town and Country Almanac77.
Но этот жанр не ограничивался Филадельфией. На плакатах об «асвабождении от рыбства» в Бостоне и Нью-Йорке фигурировали те же самые персонажи африканского общества Таммани с тостами и общественными собраниями, но были добавлены диалоги в виде выдержек из пьес. Как и раньше, закон об отмене работорговли (и празднование этого события) использовался для того, чтобы представить гражданскую активность темнокожих людей и их стремление к политическому равенству в угрожающем и смехотворном свете. Например, в наиболее раннем из сохранившихся плакатов из серии «асвабождения от рыбства» под названием «Приглашение, адресованное церемониймейстерам Африканского общества в память об отмене работорговли» (Бостон, 1816) открытому осмеянию подвергался парад свободных темнокожих людей на День освобождения, как делалось и в других случаях. Развитие и распространение этого нового постановочного жанра отражали закрепление белых расистских предрассудков и предшествовали росту расового насилия в Филадельфии и других городах американского Севера [Waldstreicher 2004: 294–349; Melish 1998: 163–210; White S. 1994: 13–50]. Устный блэкфейс после отмены рабства и сопутствующие иллюстрации также обозначали возникновение полноценного трансатлантического жанра уничижительной расовой сатиры 1820-х и 1830-х годов, построенного по шаблону диалогов и иллюстраций африканского общества Таммани и «асвабождения от рыбства» и опиравшегося на свободное обращение между печатными изданиями и театральными представлениями.
Таким образом, отмена работорговли в 1808 году послужила триггером для провозглашения исключительно белого и мужского права на гражданство и все большего укрепления расистских настроений по отношению к темнокожим людям. Пользуясь неоклассическим лексиконом, образами и театральными традициями, сложившимися в революционные годы, художники и актеры ранней республики помогали создавать и одушевлять идеи исключительно белого и мужского гражданства и внедрять их в демонстрацию расистских насмешек и конструкций «обеленной» Колумбии в ее храме Свободы. В 1790-х годах узкое определение свободы как экспансионистской прерогативы белых мужчин еще не закрепилось и существовало наряду с более инклюзивными представлениями о свободах и государственном устройстве. Так, например, Сэмюэл Дженнингс в 1791 году смог поддержать образ Колумбии, освобождавшей темнокожих рабов в знак распространения гражданских прав и республиканских свобод даже на низших членов ее храма. Но уже к началу XIX века смысловое наполнение образа Колумбии ушло далеко от концепции политического освобождения.
Этот сдвиг имел троякую природу. Для некоторых вроде Бренигана и Эдвина богиня в ее храме стала горестным символом расхождения между республиканской риторикой и реальностью. Они вместе с другими вселили в Колумбию свое желание не только покончить с рабством, но и изгнать темнокожих граждан как из государственной политики, так и за пределы страны. Но другие белые культуртрегеры пользовались визуальными и театральными представлениями, изгонявшими рабов из храма, для создания своего варианта национальной гармонии, где трения из-за рабства и расовой принадлежности становились практически невидимыми. И наконец, некоторые белые сатирики, реагировавшие непосредственно на отмену работорговли и предполагаемую угрозу растущего свободного небелого населения с его организациями, создали целый жанр для высмеивания свободных темнокожих граждан и их «жульнических» притязаний на участие в государственном устройстве. По утверждению Пола Гудмана, идея Америки как «республики господ» возникла не случайно. Скорее, «она появилась лишь после того, как прогресс и требования свободных темнокожих заставили белых прояснить и четко изложить их понимание американского республиканства как исключительной привилегии белой расы» [Goodman 1998: 10].