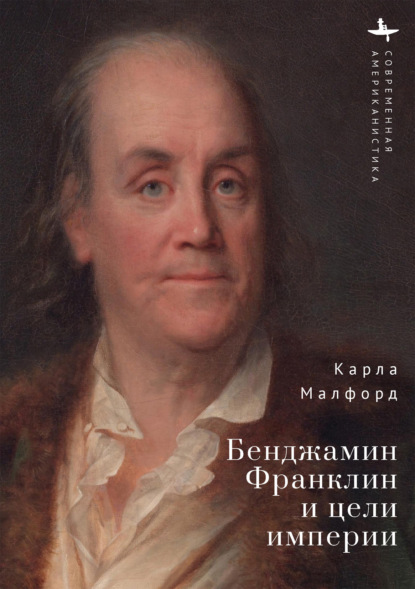Полная версия
Рабство, театр и популярная культура в Лондоне и Филадельфии, 1760–1850
Некоторые политические карикатуристы из Лондона занялись распространением этой расистской ксенофобии через мгновенно узнаваемую фигуру Мунго. Эстампы вроде «Светская жизнь под лестницей, или Обращение Мунго к горничной моей госпожи» (1772) (рис. 6) клеймили присутствие темнокожих людей как симптом упадка общественных нравов и оскорбительных межрасовых отношений89. Художник, наряду с Англиканусом и другими комментаторами, представил межрасовые отношения как нарушение общественного порядка. На эстампе Мунго пьет вместе с белой женщиной и обнимает ее, тогда как второй Мунго сопровождает его ухаживания серенадой на валторне. Надпись «Ибо вино вдохновляет нас и наполняет храбростью, любовью и радостью» явно намекает на безнравственный эротизм. Маленькие парики и треуголки темнокожих персонажей, раскрытая книжка на полу, графин и бокалы для вина высмеивают их стремление к повышению своего общественного статуса, символизируемого грамотностью, утонченностью и светскими забавами. Горничная разделяет их устремления, о чем свидетельствует ее замысловатый головной убор, подражающий роскоши ее высокопоставленных хозяев. Вместе с тем фигуры Мунго нарушают как общественные, так и расовые нормы своими претензиями на «лучшую жизнь» с белой женщиной, которую они обнаружили среди прислуги.
По мере усугубления конфликта с американскими колониями лондонцы также все увереннее воспринимали темнокожее население как причину упадка своей империи. В серии «эстампов Мунго», выражавших тревогу насчет имперской коррупции и поражения и опубликованных во время премьерской службы лорда Норта (1770–1782), фигурировал Джеремайя Дайсон, первый лорд казначейства, в образе Мунго90. Норта повсеместно обвиняли в провале колониальной политики в Ирландии и Северной Америке; он и члены его кабинета считались главными виновниками утраты американских колоний. Между тем ирландские власти столкнулись с огромной государственной задолженностью. Дайсон получил прозвище Мунго после того, как английский парламентарий назвал его «советником и проводником» политики Норта на основании его, предположительно, услужливого потворства имперской коррупции и язвительно заметил, что Дайсон напоминает ему о песне, которую он слышал в театре Друри-Лейн: «Мунго здесь, Мунго там, Мунго везде-везде» [Walpole 1894: 211; Murphy 1801: 293; Tasch 1971: 157]. Карикатура «Ирландия в беде» (1773) была одним из нескольких сатирических эстампов, где художники пользовались образом Дайсона/Мунго для изображения коррупции и неудач Британской империи91. На эстампе изображена распростертая на земле Ирландия, скомпрометированная и уязвимая, со сломанной арфой – символом этой страны. Дайсон/Мунго, спешащий за Нортом, лебезит перед ним: «Пожалуйста, дорогой лорд Норт, не забывайте бедного Мунго». Эта мольба имеет двойственный смысл: Дайсон стремится к одобрению и покровительству лорда Норта, но при этом Мунго взывает к антирабовладельческим чувствам.
С 1784 года, когда сотни темнокожих «лоялистских» бежавших от Американской революции значительно пополнили неимущее население Лондона, их присутствие служило напоминанием о поражении, укреплявшим ассоциацию между темным цветом кожи и упадком империи. После официального завершения военных действий между Великобританией и недавно созданными Соединенными Штатами в 1783 году, тысячи рабов-лоялистов были доставлены британцами в канадскую провинцию Новая Шотландия, и сотни затем добрались до Лондона. Оказавшись там, большинство присоединилось к неимущим собратьям наряду с безработными и демобилизованными белыми моряками и солдатами [Pybus 2006: 81]. В ответ филантропы и аболиционисты сформировали Комитет помощи темнокожим, первоначально созданный с благотворительной целью, а потом сосредоточившийся на переселении темнокожих бедняков в Африку. Комитет включал в себя главных аболиционистов: нескольких членов Общества друзей (квакеров), Уильяма Уилберфорса, который вскоре возглавил первую парламентскую кампанию по отмене рабства, и – на начальном этапе – темнокожего аболициониста Олауду Эквиано [Caretta 2005: 229]. В 1786 году комитет основал колонию в Сьерра-Леоне на базе предложения Генри Смитмена. Британское правительство поручило ему определить, будет ли Сьерра-Леоне удобным ссыльным поселением. Он счел знойный климат непригодным для белых охранников и заключенных, но предложил комитету это место для колонии «чернокожих и цветных беженцев из Америки, отпущенных со службы Его Величеству на море или суше, либо других подданных Британии, [которые] в этот момент, к нашему прискорбию, не могут обеспечивать себя» [Smeathman 1786]. В 1786 году комитет начал посылать свободных темнокожих людей в Сьерра-Леоне, а в 1787 году туда прибыли разом 400 человек (330 темнокожих мужчин и женщин, а также 70 белых женщин, вышедших замуж за темнокожих поселенцев)92. Большинство новых поселенцев были перемещены туда в 1792 году и основали Фритаун.

Рис. 6. «Светская жизнь под лестницей» (1772). Эта карикатура играла на классовых и расовых различиях, изображая темнокожих слуг «Мунго», флиртующих с белокожими горничными. Она предшествовала тенденции создания визуальных и театрализованных образов жизни «над лестницей» и «под лестницей». В 1774 году лондонский эстамп Джеймса Бретертона, тоже названный «Светская жизнь под лестницей», также изображал темнокожего слугу в обществе белой горничной и кучера. В следующем году популярная комедия Дэвида Гаррика «Светская жизнь над лестницей» предоставила основание для насмешки над лондонцами из высшего сословия. Публикуется с разрешения Библиотеки Льюиса Уолпола, Йельский университет
Эстамп Э. Маклоу 1787 года соединял фигуру Мунго и колонию в Сьерра-Леоне как взаимосвязанные символы беспокойства из-за проигранной войны, утерянных колоний, роста темнокожего населения и коррупции в правящих кругах [Wilson 2003: 46]. На этом эстампе лицо Норта вычернено, он одет как Мунго и направляется в Брукс-клаб93, изображенный в виде долговой тюрьмы. Дверь тюрьмы охраняет коренной американец в оперенном головном уборе, символизирующий, что Норт скоро заплатит за утрату американских колоний. Хотя Маклоу изобразил Норта на пути к расплате за его некомпетентность в государственных делах, сопроводительная надпись гласит «Бедные чернокожие отправляются на поселение», что является прямым указанием на колонию в Сьерра-Леоне. В прессе эта колония была тесно связана с недавно учрежденным каторжным поселением Ботани-Бэй в Австралии; эта ассоциация подкреплялась историей Сьерра-Леоне как места, первоначально рассматриваемого для исправительной колонии [Pybus 2006: 113]. После скандально известного антикатолического бунта лорда Гордона 1780 года газетчики недвусмысленно отождествляли бывших темнокожих рабов с поселенцами-каторжниками в Ботани-Бэй. Второго июня 1780 года лорд Гордон возглавил марш протеста с целью насильственной отмены закона, смягчавшего политические ограничения для римских католиков. Толпа протестующих численностью от сорока до шестидесяти тысяч человек взбунтовалась и практически разрушила Ньюгейтскую тюрьму. Бывшие рабы из Америки и Вест-Индии приняли участие в беспорядках, выместив гнев за свои материальные лишения нападением на тюрьму, где находились в заключении их неимущие собратья, осужденные за долги и мелкие кражи. Пресса обвинила «ньюгейтских заключенных, преступников из Ботани-Бэй и чернокожих бродяг», последовавших за мятежным лордом Гордоном, связав нищих темнокожих людей с каторжным поселением и иррациональным хаосом94. Но как Норт ассоциировался с Мунго, так и отселение «чернокожих бродяг» в Сьерра-Леоне означало устранение из виду нежелательных бывших солдат и рабов, которые стали символом потенциального упадка из-за «расового смешения», согласно злободневному жаргону.
Эстамп также иллюстрирует, как лондонцы реагировали на Американскую революцию: с беспокойством об упадке империи, пренебрежением к рабству и (некоторые) настойчивым требованием считать принадлежащими к «британской нации» только белых людей. Утверждение Кэтлин Уилсон, будто эстамп Маклоу «подтверждает, что темнокожие британцы не могли ни на что претендовать», связано с резкой дискуссией о намерениях Комитета Сьерра-Леоне. Один историк осудил цель комитета как исключительно расистское побуждение «избавить Британию от темнокожего населения и сделать ее страной для белых людей» [Shyllon 1993: 230; Walvin 1973: 148; Fryer 1984: 195]. Другие возражали и указывали на свидетельства того, что комитет «руководствовался искренним желанием помочь нуждающимся, особенно тем, кто служил своей стране в проигранной войне» [Caretta 2005: 232; Drescher 1987: 60–61]. Ассоциации, проведенные Маклоу между темнокожими людьми, коррупцией и преступностью, определенно, указывают на его враждебность к темнокожему населению. Но, независимо от истинных намерений комитета, его усилия по колонизации, как и эстамп Маклоу, в целом следует понимать в контексте диалога, начавшегося еще в годы Американской революции, но эскалировавшегося после военного поражения. Это были попытки переосмыслить «британскость», которые опирались на идеи антирабовладельческой британской свободы и либеральной империи. Ведь в «Бедных чернокожих» и на других эстампах и гравюрах художники одновременно выставляли темнокожих людей в виде маргинализованных бунтовщиков и преступников и оплакивали утрату американских колоний, недвусмысленно связывая упадок империи с клеймом рабства через его самый популярный и общедоступный собирательный образ – Мунго. Таким образом, отрицание субъектности темнокожих людей в метрополии не было антитезой переосмыслению британской свободы в антирабовладельческом контексте – скорее, оно было его эквивалентом.
Поскольку темнокожие борцы за свободу привезли в Англию мятежные настроения Американской революции и спорные вопросы о рабстве, их присутствие побудило лондонцев предпринять первые усилия по организации антирабовладельческого движения, чьим главным символом и оратором стал Мунго. В 1787 году лондонские квакеры объединились с евангелистами вроде Ханны Мор, Уильяма Уилберфорса и другими, которые, как Грэнвилл Шарп и Томас Кларксон, руководствовались религиозными принципами и идеями Просвещения, чтобы основать Лондонское общество за отмену работорговли, которое поддерживало связь с Аболиционистским обществом Пенсильвании и находилось под его влиянием. Несколько лондонских аболиционистов, включая Грэнвилла Шарпа и Томаса Кларксона, стали видными членами пенсильванского общества95. В 1780-е годы, с целью рекламы лондонского общества и поддержки первых парламентских дебатов об окончании работорговли, пьеса «Висячий замок» была представлена с добавлением антирабовладельческого эпилога. Написанный аболиционистом и произнесенный актером Чарльзом Дибдином в роли Мунго (а также напечатанный в альманахе «Пчела» в феврале 1793 года), этот эпилог призывал к освобождению на основании естественных прав и свобод:
Спасибо, господа! Вы отсмеялись до конца?Тогда позвольте мне сказать от моего лица…Хотя я был в Британии рожден,И ныне гордыми британцами я окружен,Их славные права мне тщетны и бесплодны,Я раб, тогда как все вокруг меня свободны.Да, как и вы, ничьим рабом я по рожденью не был,Наследником всего, что есть под щедрым небом,Могу я рассуждать и членами моими шевелить,Подобно вам, и так же волен я любить;Так связана ль свобода с цветом кожи?Пусть устыдятся те, кому это негоже!Предлагая слушателям воздержаться от смеха и отвергнуть рабство, Мунго одушевил уже знакомые аболиционистские рефрены. Его благовещенье о всемирной человечности («Могу я рассуждать… подобно вам») и риторический вопрос («Так связана ль свобода с цветом кожи?») опирались на принципы естественных прав человека. Мунго также чествовал судебное решение Мэнсфилда 1772 года, призывая слушателей исправить законодательную несправедливость, дозволявшую рабство в британских колониях и одновременно запрещавшую его на «свободной земле Британии». Дополнения к «Висячему замку» были симптомом более масштабной тенденции в лондонских королевских театрах, создававших новые варианты постановок давно знакомых пьес о рабах, таких как «Инкль и Ярико» Джорджа Колмана-младшего и «Орооноко» Томаса Саутерна, за несколько лет, предшествовавших дискуссии 1789 года; эта постановка была одной из нескольких, с помощью которых активисты антирабовладельческого движения надеялись заручиться поддержкой в вопросе отмены рабства.
Тем не менее постановки с участием Мунго пробудили сочувствие к романтизированной абстракции о страданиях рабов на плантациях, необязательно вызывая при этом сострадание к бедственному положению настоящих африканцев [Gerzina 1995: 188]. Вновь зазвучавший призыв Мунго к отмене рабства был обусловлен представлением о Британии как о «белой» стране свободы и справедливости, где рабство было проблемой, связанной с нравственным разложением колониальных рабовладельцев, особенно американцев, когда Американская революция начала исподволь разрушать расовые и классовые иерархии [Wahrman 2004: 238]. Публике предлагали сочувствие к невзгодам домашнего раба в экзотической Саламанке, удерживаемого в неволе похотливым и тираническим испанским доном. Более того, автор эпилога умело подчеркнул театральный характер «черноты» Мунго. Начав монолог с развязного обращения («Спасибо, господа! Вы отсмеялись до конца?»), он представил Мунго в шутовском виде, прежде чем переключиться на «бело-культурный» английский язык в призыве об освобождении от рабства. Автор также подчеркнул воображаемую суть рабства Мунго, напомнив публике о противоречии с судьбоносным постановлением Мэнсфилда 1772 года. С одной стороны, Мунго «ступал по свободной британской земле», воздух которой, как хорошо знали слушатели, был «слишком чистым для дыхания рабов», с другой – раб находился перед ними и дышал чистым британским воздухом «в окружении гордых британцев»! И автор, и театралы прекрасно понимали, что Мунго – белый актер в черном гриме – был безобидной абстракцией, представлением о рабстве на плантациях. Призыв Мунго был обусловлен цветом кожи как указанием на добродетель и цивилизованность [Nussbaum 2003: 158]. Белых британцев, способных «устыдиться», призывали ощутить сострадание к темнокожим рабам. Противостоять рабству означало быть гордым белым человеком, добродетельным британцем, который по умолчанию возлагал вину за аморальное и совершенно «небританское» попустительство рабству на каких-то далеких безнравственных креолов в Вест-, Ост-Индии и Северной Америке.
Тем не менее аболиционист Томас Кларксон утверждал, что призыв Мунго к добродетельным белым британцам, сочиненный «достойным священнослужителем», «обеспечил изрядное сочувствие к несчастным страдальцам, чьему делу он был предназначен служить» [Clarkson 1808: 67–69]. Другие разделяли его мнение. На маскараде в оперном театре в мае 1789 года, где «собрались 1200 масок», по сообщению обозревателя, «присутствовали два наиболее известных персонажа»: «бедный Мунго, который… в самых патетичных выражениях обрушился на работорговлю с критикой, к которой присоединилась не только его чернокожая дама Вовски [женский блэкфейс-персонаж из пьесы “Инкль и Ярико”], но и публика в целом»96. Свидетельские описания участников маскарада, загримированных под Мунго периода до конца 1780-х годов, либо изображали его в виде пышно разодетого шута-дурачка, либо отзывались о нем в уничижительных расистских терминах. К примеру, человек в костюме Мунго на балу в конце 1760-х годов был «разукрашенным самоцветами и в кричащем наряде, привлекавшем внимание», в то время как критическое описание маскарадного Мунго в середине 1770-х годов осуждало того, «кто вел себя не лучше обычного чернокожего»97. Эти маскарадные типы отражали постепенное развитие образа Мунго в театральных представлениях: от грубого и потешного фигляра сразу же после успешной премьеры «Висячего замка» в 1767 году и олицетворения послевоенных расовых опасений в середине 1770-х годов до аболиционистского оратора в 1780-х годах. Британцы вплетали эти семиотические нити в ткань зарождавшейся гражданской мифологии Великобритании как белой метрополии и аболиционистской империи свободы.
Под влиянием Американской революции поэты, художники, актеры и аболиционисты создали символический и риторический лексикон для оживления этой гражданской мифологии, поместив неоклассическую Британию в полифонический диалог с печатью, театральными постановками и маскарадным блэкфейс-бурлеском. Хотя Французская революция, война с Францией и масштабный бунт рабов во французской сахарной колонии Сан-Доминго временно сдерживали антирабовладельческие стремления, британцы в итоге воскресили образы и дискуссии, которые были созданы ими же в революционные годы Америки для чествования отмены рабства.
Французская Свобода, антиякобинство и британские блэкфейс-рабы
Пятого августа 1789 года в Королевском цирке состоялась премьера постановки «Триумф Свободы, или Разрушение Бастилии» Джона Дента, имевшей оглушительный успех и исполнявшейся семьдесят девять вечеров подряд. В ней Дент восхваляет Французскую революцию и падение Бастилии как триумф конституционной монархии по британскому подобию, особенно в сцене, где «Британия опускается на сцену со Свободой, Разумом и Великой хартией вольностей» и «топчет фигуру Деспотии» перед тем, как вступает хор: «Славься, Британия, тебе мы обязаны нашей свободой» [Dent 1799: 34–35]. С самого своего начала в 1789 году Великая французская революция широко чествовалась лондонской публикой и театрами – не только демократически настроенными радикалами, но и склонными к реформам сторонниками умеренного подхода, которые, подобно актерам Королевского цирка, прославляли революцию как создание конституционного государства по образцу Британии. Даже некоторые консерваторы радовались долгожданному ослаблению абсолютистского католического государства, старинного врага Британии [Morgan 1997: 433]. Публика жадно следила за событиями во Франции: от формирования революционной Национальной ассамблеи в июне до последующих требований об учреждении конституционной монархии. Четырнадцатого июля 1789 года, когда парижане атаковали тюрьму Бастилию, символ политического угнетения, Королевский цирк с большой выгодой для себя воспользовался общественным восторгом по поводу ее падения. Амфитеатр Эстли и театр Сэдлера Уэллса, которые, как и Королевский цирк, были второстепенными театрами и не имели королевского патента для постановки сюжетных драм, поспешно организовали конкурентные представления98.
Построенные в основном на диалогах сюжетные драматические постановки о падении Бастилии, представленные в крупных театрах, пользовались меньшим успехом, поскольку дискуссии о демократических правах (и об их очевидных последствиях для рабства) пробудили гнев цензуры, которая либо запрещала постановки, либо требовала значительных купюр. Второстепенные театры не были обязаны подавать хореографические постановки, пантомиму и баллады на одобрение лорда-камергера, но королевские театры Хеймаркет, Друри-Лейн и Ковент-Гарден должны были предоставлять свои сценарии. Друри-Лейн и Ковент-Гарден предложили драматические постановки о падении Бастилии, которые лорд-камергер либо жестко цензурировал, либо вовсе запретил из-за политизированных диалогов. Театр Ковент-Гарден приступил к репетициям «Бастилии» Фредерика Рейнольдса, который симпатизировал революции, но лорд-камергер отозвал патент на эту постановку. Он также отверг первый сценарий «Острова Св. Маргариты» Джона Сент-Джона, чьим героем был знаменитый «человек в железной маске», заключенный на острове Св. Маргариты с 1687 года до его смерти в 1740-е годы, когда Джон Филип Кембл попытался поставить его в театре Друри-Лейн99. Цензор потребовал, чтобы Сент-Джон убрал параллели между бесчеловечным отношением к французским заключенным в Бастилии и страданиями его героя, а также волнующий музыкальный финал в исполнении хорового ансамбля, который Сент-Джон назвал «толпой». Этот финал включал в себя стихи, побуждавшие людей «утвердить… свободу и отстоять права человека», и призывы вроде «однажды мы были свободны, так станем ли мы рабами?» [Там же] (см. также [Sova 2004: 126–127; Conolly 1976: 87–88]). Цензурированный вариант по-прежнему намекал на то, как демократические чувства находили созвучие с правами рабов на свободу, когда хор пел: «Свободный голос увенчает наш труд, / Тирания и пытки уйдут» [Conolly 1976: 85–90]100.
Наряду с вдохновляющими и демократически обоснованными аргументами в пользу естественной свободы Французская революция спровоцировала противоположные реакции, которые оказывали подрывное влияние на британское антирабовладельческое движение, усиливая существующие разногласия между консервативными «лоялистами», реформаторами и радикалами. Последние агитировали за расширение избирательных прав и демократические парламентские реформы, в то время как сторонники противоположного лагеря поддерживали статус-кво традиционных политических иерархий церкви и королевских клубов [Royle, Walvin 1982: 43]. В театрах лоялисты свистели и насмехались, в то время как радикалы и реформаторы радостно приветствовали падение Бастилии. По замечанию драматурга Фредерика Рейнольдса,
Французская революция… в значительной мере возбудила общественное внимание, но она не стала общей сенсацией до памятного дня 14 июля 1789 года, когда была разрушена Бастиллия [sic]. Тогда… лоялисты увидели революцию в одном свете, демократы в другом, и даже управляющий театром имел свое мнение на эту тему [Reynolds F. 1827: 54].
Аболиционисты разделились в своих убеждениях. Томас Кларксон и либеральные парламентарии Чарльз Джеймс Фокс и Ричард Б. Шеридан (который также был управляющим театром Друри-Лейн) находились среди горячих сторонников революции. Томас Кларксон в августе 1789 года даже отправился в Париж, где попытался убедить недавно сформированную Генеральную ассамблею в необходимости включить отмену работорговли в конституционные реформы, которые они разрабатывали [Kennedy 1950]. Но многие консервативные аболиционисты, такие как член партии тори Уильям Уилберфорс, Ханна Мор и евангелическая секта Клэпхема из англиканской церкви, к которой они принадлежали, противостояли рабству как явлению, противному для христианского духа, однако гнушались идей народной демократии и республиканских прав как основы для аболиционизма. Ханна Мор, к примеру, осуждала республиканство и выражала сожаление, что во Франции «восторжествовало бандитское отребье», а революция направлялась «духом распущенности и мятежности» [Roberts W. 1835: 294, 385–386].
Британское антирабовладельческое движение не только разделилось изнутри, но и подверглось внешним нападкам, особенно после 1793 года, когда насилие якобинского террора, начало войны с революционной Францией и бунт рабов на Сан-Доминго положили начало репрессивному антиякобинскому мировоззрению. Еще до 1793 года антирабовладельческое движение приобрело зловещие ассоциации с событиями на Сан-Доминго и во Франции, поэтому парламентские дебаты о рабстве и отмене работорговли, которые начались сразу же после падения Бастилии, закончились поражением либералов. «Размышления о революции во Франции» Эдмунда Бёрка (1790) предвосхитили эту антиякобинскую панику, предупреждая, что революционный пожар во Франции может распространиться на другие страны, и призывая тщательно загасить и обезопасить все возможные источники пламени у себя дома, в Британии: «Когда соседский дом горит, пожарным не стоит устраивать игры с огнем у себя дома» [Burke 1987: 9]. Когда Томас Пэйн опубликовал свой ответ в защиту революции под названием «Права человека», он предстал перед судом за подстрекательство к бунту и был приговорен к смертной казни заочно, поскольку к тому времени бежал во Францию [Dozier 1982: 1]. В январе 1793 года радикальные якобинцы во главе с Робеспьером казнили короля Людовика XVI, а затем объявили войну Британии. Страхи консерваторов, что французское радикальное республиканство может распространиться и в их стране, уже нельзя было считать необоснованными, поскольку радикалы учредили корреспондентские общества для агитации за демократические реформы. В 1795 году правительство под руководством премьер-министра Уильяма Питта возбудило судебное преследование членов лондонского корреспондентского общества по закону «О подрывных сборищах и об изменнических действиях». В этом контексте сторонники рабства нападали на аболиционистов, обвиняя их в отсутствии патриотизма. Уилберфорс, противник Французской революции и мятежа на Сан-Доминго, сетовал по этому поводу: «Люди связывают демократические принципы с отменой работорговли и не хотят слышать даже упоминания о них» [Wilberforce, Wilberforce 1838: 18].
Аболиционизм с его «профранцузскими» якобинскими коннотациями особенно презирали как непатриотичный, после того как французское Национальное собрание объявило отмену рабства в колониях в 1794 году и когда Туссен-Лувертюр, лидер антирабовладельческого восстания, объединил силы с французами против британцев в надежде получить автономию для бывших рабов и gen de coleur101 на Сан-Доминго. Одиннадцатого апреля 1793 года граф Абингдон выступил с пламенной речью на сессии парламента, где объявил: «Идея отмены работорговли связана с уравнительной системой и правами человека… если вам не хватает доказательств, посмотрите на колонию Сан-Доминго и вы увидите, что там натворили права человека»102. Тревоги британцев из-за распространения «черного якобинства» усиливались сообщениями французских агентов, подстрекавших небелое население Ямайки оказывать сопротивление британским властям [Genovese 1979: 20–22]. Страх перед тем, что революция с Сан-Доминго распространится на британские колонии в Карибском море, раздувался сенсационными публикациями в лондонской прессе о «великих цветных войнах» на Ямайке в 1795–1796 годах. В типичных статьях содержались жуткие описания того, как «цветные сеют смерть, пожары и разрушения», и оправдания ямайских плантаторов, которые «выпустили сотню бладхаундов для охоты на разъяренных и кровожадных дикарей»103.