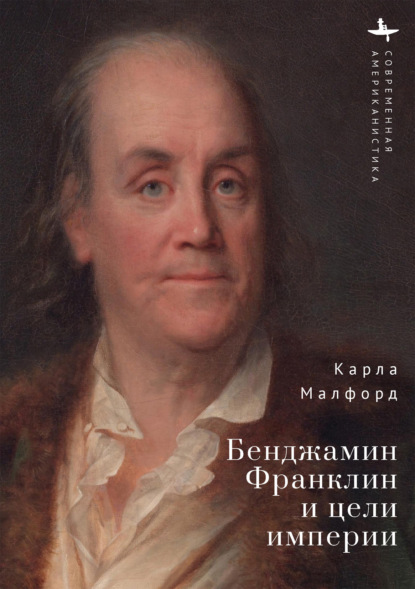Полная версия
Рабство, театр и популярная культура в Лондоне и Филадельфии, 1760–1850
Хотя белые филадельфийцы буквально и метафорически изгнали темнокожих из храма Колумбии, они продолжали славить физическое здание храма, воздвигнутого рабами, как символ того, что новая республика, по выражению пенсильванского конгрессмена Джеймса Уилсона в 1787 году, «заложила основу для строительства храмов Свободы во всех земных пределах» [Hopkinson 1788: 17]. Эта формулировка повторяла утопическое видение Томаса Пейна 1766 года о всеобщем распространении демократической революции. Но гордые прокламации Пейна и Уилсона также были прозорливыми указаниями на империалистические устремления новой нации – ее откровенное желание, по словам Джефферсона, воздвигнуть храм Свободы, который распространится на весь континент, вытесняя коренных жителей. Грандиозная мечта Уилсона тоже – может быть, неумышленно – предвосхищала инициативу XIX века изгнать свободных темнокожих людей из лона новой нации, как предлагали Брениган и другие, даже включая их так называемую репатриацию в африканскую колонию с многообещающим названием Либерия. Храм Свободы XIX столетия превратился в расистскую и гендерно замкнутую метафору государственного устройства, бесконечно далекую от представлений Пейна об эгалитарном храме Свободы богини-революционерки. Наряду с метаморфозой Колумбии в символическую мать белой «республики господ» американцы также начали снабжать ее имперскими чертами – горькая ирония с учетом того, что этот образ был создан в качестве противопоставления имперской Британии.
Глава 2
Аболиционизм в Британии и «чернокожие» рабы-просители
«Правь, Британия» Джеймса Томпсона – стихотворение, прославлявшее имперский милитаризм и бизнес, – положил на музыку и превратил в националистический гимн Томас Августин Арн в 1740 году. Гимн приобрел новое антирабовладельческое звучание в 1807 году, когда Британия отменила работорговлю и сражалась с Наполеоном. Художники, аболиционисты, памфлетисты и актеры гордо праздновали отмену работорговли как доказательство британской приверженности свободе в текстах и образах, черпавших вдохновение в событиях Американской, Французской и Гаитянской революций. Культуртрегеры первыми начали метафорически ассоциировать Британию с аболиционизмом в конце 1760-х годов, чтобы опровергнуть гневные выпады американских колонистов, обвинявших Великобританию в «тирании» и «политическом порабощении». Их популярное переосмысление идеи британской «свободы» оказывало моральную поддержку учреждению лондонского Общества отмены работорговли в 1787 году и первой парламентской петиции об отмене рабства в 1789 году. После затишья антирабовладельческого движения в репрессивной антиякобинской среде 1790-х годов, когда аболиционизм отождествляли с насильственными крайностями Французской и Гаитянской революций, англичане воскресили образ аболиционистской Британии в начале XIX века. Эта новая версия была основана на хвале «великой и свободной нации», противостоявшей тирану Наполеону, который восстановил рабство во французских колониях в 1802 году. В 1807 году, когда был принят билль об отмене работорговли, британцы рекламировали свой национальный образ как безусловных поборников аболиционизма. Архитекторы воздвигали монументы и создавали скульптуры, символизировавшие освобождение рабов в храме Свободы. Поэты воспевали славные британские законы в восторженных стихотворениях. Художники изображали Британию, даровавшую свободу рабам, которые молили об этом. А в пьесе «Фурибонд, или Арлекин-негр» в соответствии со сценическими указаниями «фигура Британии с ее львом спускала[сь] с небосвода» вместе с законодательным свитком, отменяющим работорговлю, и провозглашала «благословенный декрет, дарующий свободу неграм» [Powell 1999, 5]79.
Эта шовинистическая похвальба британской свободе появилась как следствие поражения в войне с Америкой, которое пробудило среди британцев глубокое беспокойство и сомнения в своей расовой, национальной и имперской идентичности. Американская революционная война расколола британцев, и некоторые из них осуждали ее как «несчастливую и несправедливую» гражданскую войну «с… друзьями и братьями», как сообщалось в London Evening Post80. Война вызвала озабоченность значением подданства: были ли американцы дружественным британцам или подданным народом – и еще более масштабные вопросы об имперской экспансии Британии вроде приобретений Ост-Индской компании или включения французских католиков из Канады в состав империи [Wilson 1995: 274–276, 282–284]. Тем не менее американская Война за независимость выявила резкие противоречия между многими британскими идеями культурного, этнического и политического суверенитета и зарождавшимся осознанием национальной самобытности среди их «собратьев» в Северной Америке. После утраты американских колоний единственным каналом, куда лондонцы могли направить свое экзистенциальное беспокойство насчет «гражданской войны» с Америкой, оставалась шовинистская идея британской свободы в духе «культуры патриотизма», хотя многие британцы испытывали значительный дискомфорт насчет имперской идентичности. По контрасту с превращением американской Колумбии из освободительницы в символ национальной исключительности, англичане представляли Британию в образе торжествующего аболиционизма, где отмена работорговли служила мощным символом британской свободы.
Тем не менее, как и закон Колумбии об отмене работорговли, «благословенный декрет» Британии не освобождал никаких рабов. Пантомимы вроде «Фурибонда», а также изображения, песни и карикатуры с участием театральных персонажей играли главную роль в примирительном согласовании системы рабского труда, продолжавшей существовать в британских колониях Карибского моря, с номинальной свободой Британии. Художники, поэты и актеры изображали отмену работорговли как славный триумф добродетельной богини, даровавшей свободу пассивным благодарным рабам. Эти представления исключали свободную волю рабов, а следовательно, и самих рабов, восхваляя пантеон белых филантропов как коллективное представительство либеральной Британии. Несмотря на то что они маскировали реальное рабство в Британской Вест-Индии, демонстративное отсутствие рабов в театре и популярной культуре обозначало глубокую тревогу за будущее империи. Рожденная потребностью в переосмыслении национальных и имперских представлений о «британскости» перед лицом поражения империи в войне с Америкой, эта тревога усугублялась из-за смыслового и практического различия между американскими и британскими понятиями свободы и рабства. Отмена работорговли обозначила возникновение самодовольной мифологии, в которой эта послевоенная тревога, наряду с чувством национальной вины за британскую работорговлю и рабовладение, заглаживалась демонстративным исключением рабов как таковых из национальной памяти [Wood 2000: 24; Wood 2010: 35–89].
Эта мнемоническая уловка также оказала поразительное влияние на последующие дебаты о гражданском подданстве, правах и освобождении от рабства. Во-первых, чествование филантропической реформы, «ниспосланной свыше», не только игнорировало активное участие британских рабов в собственном освобождении, но и подспудно отрицало демократические, основанные на естественных правах устремления темнокожих борцов за свободу в Карибском море и простонародных белых протестантов на исторической родине. Изображая аболиционистский декрет Британии как эмблему либерального, виговского, государства, художники и актеры помогали закрепить общественную и расовую кодификацию, отрицавшую гражданское равенство и права темнокожих подданных империи и белого простонародья в ее метрополии. Во-вторых, отрицание агентности рабов наряду с восхвалением державной власти Британии предоставляло удобную привилегию моральной цели окончательного освобождения. Постепенное освобождение пропагандировалось как разумная альтернатива немедленной свободе, особенно завоеванной революционными средствами. Более того, фигуры «чернокожих» просителей в картинах, прозе и стихах, наряду с шутовским театральным образом Арлекина-негра, были симбиотическими союзниками белой Британии в определении гражданства как прерогативы белых мужчин, принадлежащих к буржуазной элите. Персонажи театрального блэкфейса и Арлекин-негр, с его гиперсексуальностью и комичным подобострастием, были прототипами загримированных «чернокожих» исполнителей «черных» песен и выявляли расистскую озабоченность угрозой подлинного освобождения темнокожих людей для предполагаемой чистоты британской расы.
Свобода Британии, рабы Колумбии и трансатлантический аболиционизм
Деятели культуры приступили к созданию лексикона образов и суждений, которыми впоследствии будут пользоваться для чествования отмены работорговли во время имперской конфронтации, которая разразилась в протестную кампанию 1765 года против Гербового акта и затем переросла в Американскую революцию. Этот лексикон включал в себя британскую свободу как антитезу американской тирании, аболиционистскую Британию в ее храме и «чернокожего» раба-просителя в качестве фигуры, олицетворявшей как восхваление британской филантропии, так и расистские опасения правящей элиты. Эти мотивы развивались через постоянное вращение в театральной среде, печати и изобразительном искусстве. Революционная риторика о правах и свободе стимулировала волну антирабовладельческих чувств и акций, как это произошло и на другой стороне Атлантического океана. По предположению Линды Колли, аболиционизм для британцев стал способом «подтвердить свою исключительную приверженность свободе во время, когда война с Америкой поставила это под сомнение» [Colley 1992: 354–355]. Британские культурные деятели отвергали американские обвинения в тирании и политическом порабощении, осуждая колонистов как рабовладельцев и при этом реабилитируя британскую «свободу» как аболиционизм. Хотя их усилия не были последним словом в восстановлении «британскости», они имели большое значение: тема рабства находилась в самом центре трансатлантического соперничества за национальную культурную и политическую самобытность.
Хотя использование антропоморфного символа Британии на Британских островах восходило ко временам Римской империи, а миф о «свободе» Британии был основан на культурном наследии «Славной революции», эта фигура была окончательно выкована в огне Американской революции [Fischer 2005: 233–234]81. В 1760–1770-х годах, когда разразился кризис между Великобританией и ее колониями в Северной Америке, британцы и американцы сражались за право на свое понимание «свободы». В Великобритании как сторонники, так и противники американского протеста основывали свою позицию на британском значении свободы. Еще в 1766 году член парламента Эдмунд Бёрк, сопереживавший гневу колонистов, утверждал, что «без свободы [империи] не было бы Британской империи» [Burke 1981: 47]. На идеологическом контрасте с Бёрком лондонец Роберт Эйвери написал театрализованную балладу, оправдывавшую имперскую политику Британии, под названием «Британия и совет богов: драматическая поэма, где доказывается благодеяние Великобритании и обсуждаются причины нынешних разногласий между Европой и Америкой» (около 1765 года).
Художники тоже пользовались антропоморфными женскими образами Великобритании и ее мятежных североамериканских колоний в таких картинах, как «Женский поединок» (1776), для изображения соперничающих представлений о свободе (рис. 5). Как и колонисты, британцы часто изображали Америку в виде коренной американки, но делали они это с целью отвергнуть притязания колонистов на «естественное право» на свободу. В «Женском поединке» облаченная по-королевски неоклассическая Британия предупреждает свое бунтующее колониальное потомство: «Я заставлю тебя покориться, мятежная шлюха!» Америка, изображенная в виде полуголой коренной американки, нападает на свою «мать» с криком: «Свобода, свобода навсегда, мать, пока я существую!» Щит Америки опирается на цветущее древо свободы и увенчан фригийским колпаком, в то время как щит Британии с девизом «за покорность» опирается на чахнущее дерево и символизирует больную империю. Поверхностное наблюдение наводит на мысль, будто художник поддерживал борьбу колонистов за независимость. Но, изобразив Британию оскорбляющей Америку как «мятежную шлюху», художник уравнял распущенность с бунтарством, подразумевая, что американские колонисты не могут претендовать на подлинную свободу, поскольку их действия незаконны и аморальны [Rauser 1998]. Таким образом, художник провозгласил верховенство британского закона и покорность Америки как необходимое условие для здоровой «свободы» Британской империи и пристыдил колонистов, представив их обвинения в имперской тирании и порабощении как несправедливые жалобы непослушного и распущенного ребенка, настроенного на саботаж здорового духа империи.

Рис. 5. «Женский поединок» (1776). Этот британский эстамп показывает, что даже некоторые британцы представляли американские колонии как индейскую вотчину: Колумбия с обнаженной грудью агрессивно машет кулаком в сторону пышно разодетой элитарной Британии в высоком парике. Опубликовано с разрешения Библиотеки Льюиса Уолпола, Йельский университет
Лондонские писатели, поэты и драматурги тоже отвергали заявления колонистов о метафорическом порабощении, сопоставляя их с реальностью африканского рабства в Америке. Этот риторический прием особенно известен по саркастическому замечанию Сэмюэля Джонсона: «Как так случилось, что мы слышим самые громкие вопли о свободе от надсмотрщиков за неграми?» [Johnson 1913: 116] Осуждение североамериканцев как «надсмотрщиков за неграми» позволяло британцам провозглашать свое моральное и политическое превосходство, как написано в сочинении лондонца Амброза Серла «Американцы против свободы: эссе о натуре и принципах подлинной свободы, показывающее, что замыслы и поступки американцев склоняются лишь к рабству и тирании» [Serle 1775]. Серл был личным секретарем генерала Уильяма Хоу с 1776 по 1778 год, и его главная предпосылка заключалась в том, что американцы пользовались такими же «конституционными свободами», что и британцы, а следовательно, не подвергались угнетению. Но он также настаивал, что американские рабовладельцы сами были виновны в «порабощении» и «тирании», которые они предъявляли как претензии к Великобритании:
Говорить, что британская конституция может стать покровительницей тирании, – значит утверждать не только противное всем фактам и жизненному опыту, но и прямо противоположное здравому смыслу. Но может ли она [Великобритания] не поработить Америку? Я отвечаю, что рабство не является частью нашей конституции. В нашем законодательстве нет концепции рабовладения. Его нельзя найти в нашей стране. Здесь негры, когда бы они прежде ни были в рабстве, освобождаются в тот момент, как ступают на наши Берега Свободы [Там же: 33–34].
Здесь Серл, соответственно, игнорирует реальность рабства на плантациях Вест-Индии и британское доминирование в работорговле. На самом деле между 1660 и 1807 годом британские суда доставили примерно 3,4 миллиона рабов в Северную и Южную Америку – больше, чем все остальные нации, принимавшие участие в работорговле [Curtin 1969: 3–13; Lovejoy 1982]. Он также забывает упомянуть, что сам Лондон был крупнейшим портом для работорговли. В интервале между концом XVIII века и отменой работорговли в 1807 году более 2500 кораблей вышли из лондонского порта в Африку и доставили в Новый Свет около 750 000 рабов [Rawley 2003: 18–19]. Но когда Серл ссылался на законы, благодаря которым «рабы освобождаются в тот момент, как ступают на… Берега Свободы», он намекал на событие, которое воодушевило аболиционистские устремления и помогло британцам восстановить их представление о «свободе» как об отмене рабства, несмотря на неудобные жизненные реалии, а именно решение судьи Мэнсфилда по делу Сомерсета.
Дело Сомерсета, популяризированное сторонниками аболиционизма как боевой призыв к окончанию работорговли, опиралось на судьбу беглого раба Джеймса Сомерсета. Во время швартовки в английском порту Сомерсет сбежал от своего хозяина Чарльза Стюарта, который привез его с собой из Бостона. Стюарт попытался вернуть Сомерсета, изловив его и поместив для перепродажи на судно, отправлявшееся на Ямайку. В дело вмешался аболиционист и адвокат-самоучка Грэнвилл Шарп, выступивший в защиту Сомерсета в Суде королевской скамьи под председательством лорда Мэнсфилда, который в 1772 году постановил, что Стюарт не вправе принудить Сомерсета вернуться в другую страну. Мэнсфилд, владевший рабами на своей плантации в Вест-Индии, пытался защитить основы собственности в британском рабовладении, ограничив свое решение вопросом о насильственном возвращении Сомерсета. Тем не менее противники работорговли истолковали его решение в том смысле, что раб становится свободным сразу же после вступления на британскую землю, и в полной мере воспользовались расширенными интерпретациями этого дела, что позволило авторам вроде Серла рекламировать это как образцовый пример британской «свободы», противоположной «тирании» американского рабства [Antsey 1975: 243–245].
Актеры и поэты продолжали эксплуатировать новую концепцию британской свободы в риторических дискуссиях, стихотворениях и театральных постановках, прославлявших решение Мэнсфилда с целью уничижительной критики американского рабства. Пятого июня 1782 года в театре «Лицеум» состоялась оживленная риторическая дискуссия на тему «Может ли рабство, навязываемое европейскими нациями, быть оправдано какими-либо принципами?» с учетом предписаний британской конституционной «свободы»82. То обстоятельство, что «Лицеум» – совсем небольшой театр, имевший лицензию только на сценические танцы, бурлетту (короткие комические оперы) и мимические пересказы, известные как «шоу для дураков», – проводил серьезные дебаты о рабстве, указывало на широкую общественную поддержку антирабовладельческих настроений. Поэт Уильям Купер тоже прославил решение Мэнсфилда в своем стихотворении «Урок» 1785 года: «Раб в Англии дышать не может. / Когда он воздух наш вдохнет, / Свободу тотчас обретет» [Cowper 1785: 2, строка 47]83. А Джон О’Киф, ирландский актер и драматург, который провел бо́льшую часть своей жизни в Лондоне, обратился к судебному постановлению Мэнсфилда в своей комедии «Молодой квакер». Премьера состоялась в королевском театре «Смок Элли» в 1784 году, а затем была перенесена на подмостки лондонского Ковент-Гардена. В отличие от небольших театральных сцен театры с королевскими патентами – Ковент-Гарден, Хеймаркет, Друри-Лейн в Лондоне, а также «Смок Элли» в Дублине – имели лицензию на постановки драматических пьес и комедий. В «Молодом квакере» О’Киф пропагандировал антирабовладельческие настроения и гордость за решение Мэнсфилда как основу для осуждения американского рабства.
О’Киф написал свою пьесу с нескрываемо аболиционистским намерением, как он вспоминает в своих мемуарах:
Я также хотел, чтобы [актер] Льюис исполнил роль молодого Сэдбоя; мое искреннее желание состояло в том, чтобы мое мнение о работорговле, высказанное в двух речах этой комедии, было донесено до публики на подмостках большого зимнего театра, особенно в день бенефиса Льюиса, когда я знал, что зал будет полон [O’Keefe 1826: 55].
Кроме того, он высмеял умеренную религиозность и манеры квакеров, или Общества друзей, в репликах молодого Рубена Сэдбоя и его отца, Старого Сэдбоя. В одной из своих речей молодой Рубен Сэдбой признается отцу, что вместо того, чтобы «вести дела в интересах правоверных из Филадельфии» во время визита в Лондон, он находился среди «торгашей, продавцов табака, букмекеров и пьянчуг»84. После того как Рубен умоляет отца о прощении, отец восстанавливает сына в правах наследства, которых он угрожал лишить его, и завещает ему свой дом, виноградник, плантацию и рабов. Рубен Сэдбой отвечает:
Я принимаю твою благосклонность, но не в полной мере и в самом вольном смысле. Если англичане похваляются Свободой, то почему мы все еще сохраняем отвратительную торговлю другими человеческими существами? Я приму твой дом, виноградник и плантацию ради себя и моих братьев в Америке, но что касается рабов, то заявляю, что каждый мой раб отныне будет свободен так же, как воздух, которым он дышит. Свобода более не должна считаться особым благословением для Англии; ее следует распространить на Америку, и пусть ее будет лишен лишь тот, кто может поработить своего ближнего [Там же: 4].
О’Киф сослался на решение Мэнсфилда для похвалы «особого благословения» британской свободы, делающей раба «таким же свободным, как воздух, которым он дышит», противопоставив ее американскому рабству и таким образом насмехаясь над независимой Америкой как бастионом свободы и прав человека. При этом О’Киф проигнорировал британское рабство в Вест-Индии и тот факт, что филадельфийские квакеры поддерживали антирабовладельческие настроения. Он, несомненно, должен был знать, что Общество друзей в Лондоне и Филадельфии к 1780-м годам отвергало рабовладение и начинало активную работу против рабства. Его идеализация британской антирабовладельческой свободы была возможна лишь потому, что реальность рабства на британских плантациях находилась далеко от метрополии, где воздух был «слишком чистым, чтобы рабы могли дышать им».
Хотя в пьесе О’Кифа не было персонажей-рабов, образ раба с блэкфейсом был неотъемлемой чертой новой формулировки британской «свободы» как антирабовладельческой концепции. В Лондоне, как и в Филадельфии, Мунго из пьесы Айзека Бикерстаффа «Висячий замок» стал повсеместным символом темнокожего человека в прозе, стихах и театральных постановках – настолько, что к концу XVIII века слово «мунго» было синонимом африканского раба [Nussbaum 2004: 78]. Лондонцы пользовались печатными и театральными образами Мунго для обсуждения вопросов рабства, свободы и расовой принадлежности, вызванных революционным конфликтом. Впервые Мунго появился в роли паяца, при этом располагающего публику к себе, в «Висячем замке» – музыкальном дивертисменте, премьера которого состоялась в королевском театре Друри-Лейн в 1767 году. Но к 1770-м, по мере эскалации имперского кризиса, карикатуристы пользовались Мунго как вместилищем своих опасений по поводу упадка Британской империи, страха перед смешанными браками и коррупцией в системе управления. Комментаторы политических событий открыто проявляли эти опасения, когда приток темнокожих беженцев в результате событий Американской революции пополнил ряды социально не защищенных лондонцев. Но это не помешало аболиционистам, которые учредили лондонское Общество по осуществлению отмены работорговли, присвоить образ Мунго как «чернокожего» просителя, желающего приобщиться к британской свободе. Но даже после реквизиции с целью поддержки сочувственных антирабовладельческих настроений образ Мунго сохранял свои комичные черты и служил воплощением беспокойства белых лондонцев по поводу реальных темнокожих людей.
Мунго стал прототипом для комических персонажей блэкфейса (слуг или рабов) на театральных подмостках Лондона и Филадельфии. Он был предтечей распространения жанра песенного блэкфейса благодаря своему забавному косноязычию и безусловной популярности. Сразу же после премьеры «Висячий замок» стал хитом как «чрезвычайно искусная маленькая пьеса, имевшая большой успех и получившая самые лестные отзывы»85. Пьеса выдержала 54 представления за один сезон и исполнялась еще 142 раза в течение следующих десяти лет [MacMillan 1960–1968]. Персонаж Мунго пользовался бешеной популярностью у публики: его изображение появлялось в печати и на чайных коробочках, а его имя украсило титульный лист антологии прозы и поэзии «Висячий замок, или Попурри в честь Мунго» (1771) [Oldfield 1993: 9]. Участники маскарадов даже изображали Мунго на балах86. В Филадельфии музыка из оперетты распространялась сама по себе, а его знаменитое сетование – «Мунго здесь, Мунго там, Мунго везде-везде… Господи всемогущий, ты прибрал бы меня к себе» – часто сопровождало изображение персонажа.
Персонаж Мунго стал завсегдатаем политических шаржей и карикатур, выражавших опасения, связанные с настоящими темнокожими людьми в Великобритании. Журналисты громогласно возмущались их растущим присутствием в Лондоне; карикатуры и газетные статьи конца XVIII века свидетельствуют об усилении беспокойства в связи с расовыми различиями, национальной идентичностью и имперской доблестью, особенно после поражения Британии в войне с Америкой [Wahrman 2004: 238]. К 1750 году темнокожее население Великобритании составляло от 15 000 до 20 000 человек и было сосредоточено в главных портовых городах: Лондоне, Ливерпуле и Бристоле [Drescher 1987: 30]. В Лондоне возросшее присутствие темнокожих людей усилило призывы к их изгнанию из города, пробудив страхи перед смешанными браками. Уже в 1764 году один автор, подписывавшийся как Англиканус, сетовал: лондонские темнокожие люди «занимают места множества наших сограждан, и таким образом многие из нас лишаются средств к существованию, а потому наше коренное население позорным образом убывает в пользу расы, которая смешивается с нашей». В заключение Англиканус обращается к парламенту с просьбой «полностью воспретить их дальнейшее прибытие»87. Корреспондент London Chronicle в 1773 году тоже призывал парламент «принять меры… к немедленному изгнанию [темнокожих людей] ради спасения природной красоты британцев от тлетворной мавританской примеси»88.