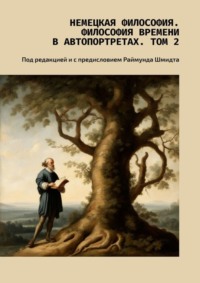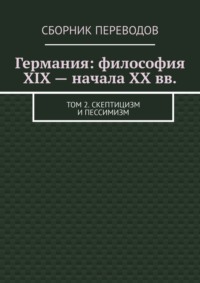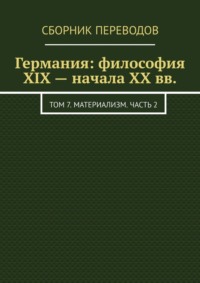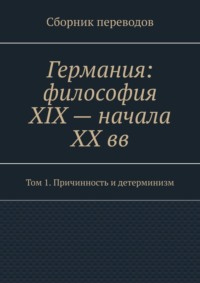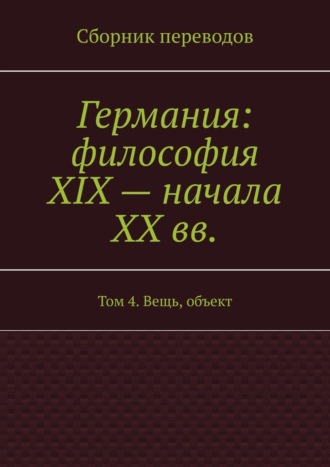
Полная версия
Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 4. Вещь, объект
Но таким продуктом слияния является, как мы знаем, сознание сходства. И два круга, сравниваемые таким образом, действительно кажутся нам похожими. Но в этом сходстве есть иное единство и разнообразие, чем в предыдущем случае с двумя звуковыми впечатлениями. Там громкость звуковых впечатлений одновременно и сходна, и различна в той мере, в какой она не сходна (однородна). Каждый сдвиг в сторону сходства требует соответствующего сдвига в сторону различия. Здесь же, строго говоря, единство и множественность относятся к разным сторонам объекта, так что сдвиг в одну сторону, увеличение равномерности, не может означать сдвига в другую сторону, уменьшение множественности, и наоборот. В то же время можно заметить, что в данном случае увеличение и уменьшение вообще не могут иметь места. Единство формы так же абсолютно, как и множественность цвета. Благодаря этому сочетанию максимально возможного единства с максимально возможной множественностью, подобное сходство достигает своей высшей степени, причем эта высшая степень не может совпадать с равенством как таковым.
Сознание сходства и различия связано с другим феноменальным набором отношений: с определенным числом, двойственностью, троичностью и т. д. Разумеется, мы должны быть в состоянии осознать, что означает триединство в конкретном случае, так же как мы должны быть в состоянии осознать значение слов «равенство» и «сходство». Когда мы рассматриваем ряд из трех точек, мы сразу же схватываем их в их определенном количестве и отличаем их как три от четырех, так и от двух точек. Но что это за характер триединства, который такая сущность проявляет для нас как феноменально данная? Мы можем сосчитать только идентичные объекты или объекты, которые мы считаем идентичными – Peter и Paul – два человека, звезда и стол – два физических объекта. Это означает, что целое, состоящее из идентичных объектов, всегда имеет для нас характер некоторого разнообразия, которое мы выражаем, говоря об определенном количестве этих объектов. Таким образом, счет предполагает две вещи: реализацию равенства отдельных элементов, одновременное объединение этих элементов в целое и выявление характера множественности, которым всегда обладает для нас подобное целое. Однако и это лишь предварительное определение, к которому мы вернемся в другом месте при обсуждении закона числа.
Наконец, в этом контексте нам не хватает еще одного, самого важного для дальнейшего изложения понятия отношения, особенность которого также связана с особой проблемой: понятия тождества. Эта проблема заключается прежде всего в том, что мы понимаем отношение как под тождеством, так и под сходством и различием, но поскольку отношение предполагает по меньшей мере двойственность реляционных элементов, то в смысле тождества, казалось бы, должна быть отменена всякая двойственность, всякая множественность, два одинаковых объекта переплавляются в один. В этих условиях как вообще может возникнуть осознание того, что два объекта тождественны, когда и где мы можем испытывать отношения такого рода? Случай, когда мы испытываем нечто подобное, в принципе уже известен нам. Мы представляем что-то в своем воображении – и вот воображаемый образ предстает перед нами, он воспринимается нами. Тогда воображаемый образ не тождественен последующему перцептивному образу, но последний тождественен тому, что представлено в воображаемом образе. Мы осознаем, что именно то, что мы видим, представлено нам в мысленном образе, что мы видим через мысленный образ. Мы видим, на чем основывается возможность говорить здесь о тождестве: она основывается на том, что в представлении есть две вещи, само представление и то, что в нем представлено, естественный символ и то, что в нем символизируется. Последнее, однако, может совпадать с фактом, воспринятым или пережитым нами в другое время.
То же самое можно сказать и о том, где бы мы ни воспринимали символ – даже искусственный – и то, что в нем символизируется. Последнее, однако, может совпадать с фактом, воспринятым или пережитым нами в другое время.
Наконец, то же самое можно сказать и о тех случаях, когда перед нами находится символ – в том числе и искусственный – слово. Здесь, но только здесь, выполняются условия, позволяющие осмысленно применять понятие идентичности. «Тождество» может существовать только между значением символа и данным фактом или между значением двух символов. Ибо только здесь мы имеем двойственность и в то же время абсолютное единство, абсолютное совпадение: Один и тот же объект предстает перед нами один раз непосредственно и один раз через посредничество того или иного символа. И мы переживаем идентичность, ощущая исполнение символа в данном факте.
10. Методология предшествующего феноменологического анализа. Критико-исторический экскурс.
Эпистемологическое направление, которое обычно называют «феноменализмом», можно охарактеризовать тремя принципиальными способами. Во-первых, феноменализм принципиально требует, чтобы все знание «исходило» из данности. Я принял это требование в начале своих замечаний и уточнил его в своем смысле: языковые символы, используемые в познании, в конечном счете, в той мере, в какой они должны иметь значение сами по себе, должны быть заменены данностями. Против тех философских школ, которые в принципе выступают против этого требования, необходимо было поставить вопрос о том, как они, не признавая абсолютной данности, защищают свои слова от того, чтобы они не были просто бессмысленными звуками. Все, что было добавлено, – это то, что существует косвенное и непосредственное приведение к данности, но что о реальной косвенной данности можно говорить только там, где есть репрезентативный (память, фантазия) образ косвенной данности. Во-вторых, феноменализм утверждает, что выйти за пределы данности в плане познания невозможно. О том, в каком смысле это утверждение, которое, разумеется, никогда не бывает абсолютным, верно, а в каком – неверно, пойдет речь в следующей главе. В-третьих, феноменализм утверждает, что то, что он называет «феноменами» в своем смысле, является единственной данностью. Это понятие феноменов, в свою очередь, может быть определено в трех направлениях.
Первое: феномены – это единичные, индивидуальные факты. Только такие факты являются данностью.
Во-вторых: феномены – это явления в отличие от всего того, что материально реально. В частности, они не являются чем-то, что могло бы повториться как идентично то же самое, или существовать для другого сознания, или продолжать существовать как нечто еще не данное.
Наконец, в-третьих: то, что дано, есть большинство феноменов, видимостей – не видимость изменяющегося содержания. Даны «содержания», но нет «актов», которые бы особым образом опосредовали существование этих содержаний.
Если мы определим утверждение, что таким образом могут быть даны только явления, то предыдущие анализы приведут нас к феноменализму. Феноменологический анализ фактов, поскольку вопрос о том, даны ли только явления или что-то еще, является в конечном счете чисто фактическим вопросом, не является самоочевидным или логически необходимым, что не существует никакого другого существования. Логические соображения были необходимы только в одном направлении: если мы хотим знать, дана ли вещь, мы должны поразмыслить над тем, что вообще уступается нам в понятии вещи, мы должны предшествовать этому с – предварительным – анализом понятия вещи, чтобы решить, действительно ли то, что дано здесь или там, может быть рассмотрено как вещь. Только в этом смысле логические аргументы использовались, так сказать, в качестве вспомогательного средства для постановки феноменологического вопроса; фактическое решение принимается, конечно, путем анализа самого данного.
Чтобы особенно подчеркнуть это, я не использовал слишком удобный аргумент, который был частью железного запаса феноменализма со времен Беркли, что это логическое противоречие, если мы приписываем существование воспринимаемому объекту &n too convenient argument, which was part of the ironclad stock of phenomenalism since Berkeley, that it is a logical contradiction if we attribute existence to a perceived object &n too convenient argument, which was part of the ironclad stock of phenomenalism since Berkeley, that it is a logical contradiction if we attribute existence to a perceived object independently of perception. Этот аргумент недавно подвергся справедливой критике с разных сторон. Как аргумент он фактически является petitio in principii [он предполагает то, что должно быть сначала доказано – прим. пер.] Ведь из того, что утверждение о существовании объекта восприятия без того, чтобы его воспринимать, содержит логическое противоречие, никак нельзя заключить, что под бытием мы не можем понимать ничего иного, кроме сознания или данного существования, а только наоборот: ответ на вопрос, есть ли здесь логическое противоречие, можно дать только тогда, когда мы знаем, что такое бытие и что такое данное существование. Ход моей аргументации, повторю ее в другой форме, был иным по отношению к рассматриваемому пункту; отправной точкой является вопрос: что значит, что содержание дано? Значит ли это, что содержание обладает отделимым свойством, например, отношением к чему-то другому (к акту, узнающему Я), так что мы могли бы представить себе содержание один раз с этим свойством, другой раз без него, чтобы косвенно привести его к данности? Это было бы мыслимо само по себе, это не было бы логическим противоречием – не было бы противоречием иметь возможность представить себе невоспринимаемый объект; если я допускаю, что объект представлен мне непосредственно данным содержанием сознания, то из этого нельзя логически заключить, что то, что представлено, само является непосредственно данным содержанием сознания (как обычно выражаются, когда я что-то думаю, это не значит, что то, что думается, также является мышлением). Но здесь я имею в виду факты. Невозможно ответить на предложение представить себе то, что мы сейчас воспринимаем как красный цвет, один раз как воспринимаемый и один раз как не воспринимаемый, просто визуализируя два феноменально различных данных. У меня нет двух таких данных. Поэтому мысль о таком невоспринимаемом цвете – это не логически противоречивая мысль, а пустое слово, которое не может быть наполнено мыслимым содержанием. Если же мы все же говорим о цветах, которые фортексируют, казалось бы, осмысленно, то это логическая проблема. 18
Точно так же в другом случае, в задаче визуализации двух объектов, которые, несмотря на их двойственность, абсолютно идентичны, я способен представить себе только в одном случае, но и здесь плавно решаемом, что это два объекта, один из которых символически представляет другой, символическая функция одного выполняется в другом. Понятие двух разных, взаимно независимых сущностей, которые не находятся в символическом отношении друг к другу, но между которыми существует тождество, опять-таки является для меня пустым словом, которое не может быть наполнено никаким определенным содержанием. Поэтому, если мы говорим о таком тождестве, казалось бы, осмысленно, это, в свою очередь, ставит логическую проблему.
Если этот феноменологический анализ верен, то из него опять-таки следует, что вещи не даны и что Я не дано, ибо момент тождества играет в этих понятиях существенную роль. И что когда мы описываем данное как то же самое, что уже было раньше, это языковое выражение, даже если оно возникает совершенно немедленно, все же не является простой констатацией данного факта, но некой его интерпретацией, смысл которой необходимо сначала отыскать, что мы должны сначала спросить себя, почему такое утверждение может иметь смысл и в чем он может состоять.
Из последнего и предыдущего замечаний ясно, какова внутренняя связь между предположением о существовании реальных и идеальных объектов, с одной стороны, и существованием актов как непосредственно постигаемых ментальных сущностей – с другой. Мы можем резюмировать эту связь следующим образом: Данное существование реального и идеального включает в себя идею о том, что один и тот же объект может быть понят однажды как индивидуальный феномен, однажды как реальная фокусирующая сущность, однажды как родовая сущность, которая также встречается как то же самое в другом месте, и в другой раз, что это изменение концепции происходит в непосредственно данном. Поэтому не случайно, что феноменология Гуссерля выросла из той психологии, которая представляет себя прежде всего как психология действия, из школы Брентано. Но здесь все еще существует двойная возможность: либо говорят, что данное явление становится реальной вещью или общим понятием через добавление соответствующего акта – вещь есть явление, распознанное в конкретном акте суждения, род есть явление, от которого я абстрагируюсь здесь и сейчас. такова, если я не очень ошибаюсь, точка зрения фактического учения Брентано и его учеников. Она претерпела свою первую модификацию благодаря разделению содержания и объекта идей, впервые введенному Казимиром Твардовским. Здесь объект, который здесь точнее означает реальный объект, уже становится чем-то единообразно данным, которому направленный на него акт соответствует только как акт схватывания; он уже не может быть определен как явление, постольку, поскольку определенный акт обращается к нему. Дальнейшее развитие мы находим в трактате Мейнонга «Объекты высшего порядка и их отношение к внутреннему восприятию» и в его идее теории объектов как науки и, соответственно, в феноменологии Гуссерля. Это происходит под впечатлением убеждения, что доктрина Брентано неразрывно связана с трудностями, которые противостоят аристотелевской доктрине общего, что она не в состоянии удержать тождественное-одному то, что имеется в виду. Все наши слова (независимо от того, имеют ли они общее значение или обозначают реальную вещь, являются ли они отдельными словами или целыми предложениями) означают определенную вещь, которая, будучи тождественной, может также означаться в другое время и разными людьми. Это тождественное-одно является либо данностью, либо на его место ставится сумма сходных явлений, связанных именно с такими актами, которые существуют в разное время и в разных сознаниях, – таким образом, происходит «психологическая реинтерпретация». (С другой стороны, в критических выступлениях Марти против Мейнонга и Гуссерля, например, как мне кажется, преобладает мысль, которую я высказал в предыдущих параграфах, что здесь проблемы отсекаются, а не решаются. Отсюда его постоянно повторяющийся упрек, который, на мой взгляд, непредвзятый человек всегда должен чувствовать себя в какой-то степени оправданным, что здесь, в Гуссерле и Мейнонге, излишне вводятся конечные новые классы объективностей). 19
Нигде сам Гуссерль не резюмирует точку зрения своей феноменологии более резко, чем в трактате «Логос»:
«Все зависит от того, чтобы увидеть и сделать это полностью своим, чтобы увидеть «сущее», сущее «звук», сущее «вещь-явление», сущее «вещь-зрение», сущее «образ-понятие», сущее «суждение» или «воля» так же непосредственно, как услышать звук, и чтобы судить о сущем в видении». С другой стороны, однако, мы должны остерегаться путаницы Юма и, соответственно, не путать феноменологическое видение с самонаблюдением, с внутренним опытом, короче говоря, с актами, которые вместо сущности скорее помещают соответствующие им детали.» (Философия как строгая наука, Логос, т. 1, с. 318)
Фактически, еще раз резюмируя в заключение, мне кажется, что здесь есть только две возможности. Либо признать реальные и идеальные объекты как столь же многочисленные данности, либо отрицать эти данности – но тогда не допустить, что они вообще возникают через композицию актов и явлений, то есть вывести номиналистическое следствие и задаться лишь вопросом о том, как возможны существительные, описывающие вещи и роды, в качестве «значимых» образований языка.
Глава вторая. Природа суждения
1 Слово и суждение. Вопрос о значении высказывания.
Прежде всего напомним проблему, из которой исходили рассуждения первой главы. Каждое понятие, которое мы используем с научным намерением, должно быть эпистемологически «прояснено», т. е. его содержание должно быть сначала четко определено. Мы сталкиваемся с понятиями как с осмысленными словами, поэтому речь идет о том, чтобы четко определить значение определенных слов-символов. Сделать это окончательно можно, по-видимому, только приписав данному слову прямо или косвенно данный факт, в качестве собственного имени которого мы можем рассматривать это слово. Отсюда возник вопрос: можно ли найти такой факт для каждого слова, можно ли каждое слово, которое мы используем, понимать как имя предмета, который мы можем отнести к себе как данность? Ответ на этот вопрос отрицательный. Мы обнаруживаем, что все наши понятия, которые или в той мере, в какой они обозначают идеальные или реальные объекты, не обозначают сущности как таковые и, таким образом, выходят за пределы данного в своем значении. Я назвал этот результат «номиналистическим», тщетная попытка постичь смысл рассматриваемых слов характеризует их как «простые», бессмысленные «nomina», как просто кажущиеся имена, которым не соответствует никакой названный объект, как имена фиктивных объектов, или даже лучше: как фиктивные имена, ибо сам факт, что они являются именами для чего-то, является «фиктивным».
Но тут возникает вопрос: как это может быть, если все считают, что эти слова имеют определенное значение, если мы осознаем, что используем их осмысленно?
Именно этот вопрос указывает нам путь к решению. Мы используем слова в определенном смысле, мы считаем, что связываем с ними значение, когда используем их. Чтобы ответить на вопрос, в какой степени мы говорим здесь о значении, и это значение может быть нам известно, мы должны задуматься об этом употреблении, мы должны искать слова как компоненты живого языка.
Другая мысль направляет меня в том же направлении. Я спрашивал о значении слова. Но слово никогда не встречается само по себе, а только как часть более полного языкового целого, предложения. Так что, строго говоря, вопрос о значении слова содержит нечто противоположное природе. И может оказаться, что слово само по себе не имеет значения, а приобретает его только в контексте предложения, или что так называемое «значение» слова заключается в функционировании его как части действительно значимого целого.
Чтобы снять с этой идеи хотя бы часть парадоксального привкуса, я хотел бы напомнить вам о словах, для которых, как мы все считаем, применимо по крайней мере нечто подобное: так называемые синкатегорематические выражения «и», «или» и так далее. Возможно, существительные общего и вещественного значения также являются в определенном смысле «синкатегорематическими выражениями».
Языковое целое с единым значением, к которому слово добавляется как элемент, уже называлось «предложением». Вопрос о значении слов, которые мы используем, должен предваряться соответствующим вопросом о предложениях.
Я также называл значение слова концептом, связанным с этим словом (хотя само слово «концепт» взято в самом широком смысле). Соответственно, смысл предложения мы можем описать как суждение, связанное с этим предложением.
Смысл каждого предложения – это суждение. Оно также может быть разного рода другими вещами: пожеланием, приказом, вопросом. Но даже если я, например, выражаю пожелание: «Пусть завтра не будет дождя», то в этом высказывании, несомненно, содержится утверждение, что я, говорящий, испытываю именно это желание. И это утверждение является суждением, об истинности которого я могу спросить (Вы действительно этого хотите? Это правда, что вы этого хотите?). Конечно, это утверждение – не то, что говорящий пытается донести до слушателя, что он пытается выразить (в этом отношении языковые выражения «хотел бы, чтобы это произошло» и «у меня есть желание, чтобы это произошло» различаются по смыслу), но оно неизбежно подразумевается в предложении: я не могу выразить желание, не подразумевая суждения о том, что у меня есть желание, или в более общем смысле: я не могу произнести предложение, не содержащее суждения. Смысл предложения всегда имеет форму суждения, даже если иногда это может быть просто форма.
Исследование «понятий», таким образом, приводит нас к исследованию «суждения», поскольку, как было сказано ранее, слова, возможно, приобретают значение только в контексте предложения, или, как мы можем теперь сказать в ответ, понятия, возможно, приобретают фиксированное содержание только как части суждений. В последней форме идея истории философии не является абсолютно далекой. Вспоминается обозначение Кантом понятий как «предикатов возможных суждений» (Kr. d. r. V., издание KEHRBACH, стр. 89).
Наконец, ход нашего рассмотрения сам собой приводит нас к той области, на которую указывает ранее приведенное возражение Гуссерля против номиналистической позиции. В этом возражении утверждается, что номинализм неизбежно ведет к релятивизации знания и понятия истины. Познание происходит в суждениях, понятие истины находит свое исключительное применение в суждениях. Такой поворот исследования автоматически подводит нас к основной проблеме эпистемологии и к вопросу о том, какую позицию по отношению к этой проблеме занимает номиналистская позиция.
2 Критерий суждения.
Суждение как непосредственно данный факт.
Если мы хотим узнать факт, сделать его особенность ясной для нас, мы должны попытаться постичь его непосредственно, то есть привести его непосредственно к данности. Таким образом, если мы хотим ответить на вопрос о природе суждения, мы должны сделать суждение данностью. Задача не кажется трудноразрешимой: нужно, кажется, только осуществлять суждение в своем сознании и смотреть на процесс суждения и его фактическое содержание лишь по мере того, как они предстают перед нашим опытом. Если быть еще более точным: суждения – это смысл предложений. Поэтому речь идет о том, чтобы произносить, читать или слышать предложение «осмысленно», с «осознанием его смысла» и одновременно фиксировать этот смысл в нашем сознании.
Должен ли этот путь привести к желаемой цели? Если мы осмысливаем предложение, должен ли смысл предложения всегда присутствовать для слушающего или говорящего как данность? Мы уже знаем, что это не так. Употреблять слово со смыслом и иметь его значение перед глазами – две разные вещи, и то, что верно для отдельного слова в этом отношении, должно быть, конечно, верно и для предложения.
Но приводит ли простое, непосредственное наблюдение за тем, что происходит в сознании, когда мы произносим предложение со смыслом, к желаемому успеху в каждом конкретном случае, можно, конечно, узнать только опытным путем. В этом отношении древнее определение суждения как «композиции идей», восходящее к Аристотелю, кажется мне поучительным. Очевидно, что это определение основано на лингвистически сформулированном предложении. Предложение представляет собой комбинацию двух слов – оно состоит из субъекта, предиката и соединительной копулы. Каждое из этих отдельных слов имеет свое собственное значение, которое, тем не менее, становится частью значения целого. Это очевидно: определение выводит характер того, что имеется в виду в предложении, из характера предложения. Оно конструирует суждение и его концептуальную сущность, анализируя языковое выражение предложения, вместо того чтобы полагаться на прямой анализ фактов самого суждения. Когда мы выносим суждение: Все люди смертны: действительно ли мы сначала вводим понятия «человек» и «смертность», а затем связываем эти два понятия? Показывает ли нам что-нибудь прямое наблюдение, прямое сознание о таких процессах? Я думаю, что даже спор о том, не происходит ли, возможно, прямо противоположного, разложения «общей концепции» на две отдельные концепции, показывает, насколько мала роль прямого анализа какой-то не чисто языковой сущности во всей теории суждения, основанной на пропозиции. Но не надо было бы конструировать сущность суждения из сущности пропозиции, не надо было бы путать эту конструкцию с прямым анализом, если бы искомое суждение само, без лишних слов, предстало перед анализом. (Наконец, что касается самой цепочки умозаключений, через которую возникло концептуальное определение суждения: если языковое предложение является составным, должен ли смысл действительно быть также составным? Должно ли каждое самостоятельное слово в предложении соответствовать компоненту смысла?
Должно ли суждение связываться или это происходит, если связывается предложение? Так много выводов, так много вопросительных знаков).
Мне кажется, что весь путь, по которому здесь анализируется приговор, – это неверный путь. И он характеризует себя таковым с самого начала. Мы хотели исходить из смысла предложения, языкового целого, чтобы понять, в чем вообще состоит «смысл» отдельного слова; упомянутое здесь определение исходит из того, что смысл предложения содержит в себе смысл отдельных слов, тем самым предполагая, что последние известны.