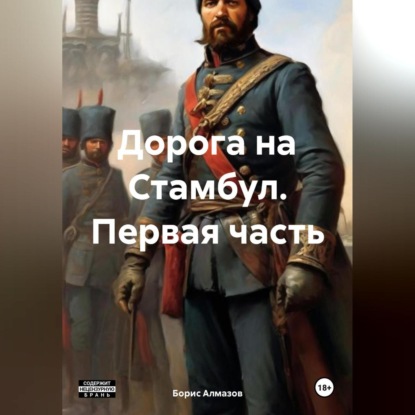Полная версия
Дорога на Стамбул. Часть 2
– Да мало кто бегает. Тоже и мужики дуреют. Понятия и в них нет. Это мы от веку, от деда к внуку, возле смерти тремся , а они который–который на войну то попадает… Страху натерпится: либо одуреет, либо озвереет, а все в понятие не входит, зачем ему Господь испытание военным страданием послал. Глаза вылупит, цацак понавешает, а как был бараном, так и остался… Воистину не существо, а вещество… И жил не думавши , и подохнет, как овца на бойне! Думать лениться!
– А офицеры что же? Они же образованные… Что ж они то?…
– Да ведь они по немецким книжкам образованные. А вся эта наука немецкая, она может пользу и приносит, но от размышления человека отвращает. Она ведь для пользы телесной, вот душа-то и сохнет… Они философов истинных и не знают. Эх, была у меня книга Григория Саввича Сковороды, нашего казака, вот там все было как нужно прописано, да потерял на походе, уж годов несколько как потерял и купить негде… Печатают всякую ерунду. А та книга у меня рукописная была…Однако, – сказал он, вставая, – коли таков голос, что мы зимовать тут станем, так надобно баню ладить, не то вша напрочь заест – тиф пойдет.
Документы:
«Генерал Тотлебен умело руководил осадными работами. Чтобы уменьшить потери в войсках, он приказал вырыть прочные окопы, построить удобные землянки, приблизить к фронту далеко расположенные госпитали. Артиллерия должна была произвести тщательную пристрелку неприятельских укреплений, а затем перейти к их методическому разрушению. Осада велась в трудных условиях начавшейся осенней непогоды. Снабжение войск было организовано плохо. Начались заболевания. Убыль от болезней доходила до 200 человек в день.»
Мартынов Е. Блокада Плевны. (по архивным материалам) Спб. 1900 г. стр. 46.
В казачьих полках первым следствием известия, что штурма не будет, было массовое рытье землянок, утепление палаток и строительство бань. В 23 полку под баню приспособили пустующий каменный сарай. Нашлись печники, сноровисто сложившие каменку. Сотник Рыкавсков, который постепенно становился всеобщим любимцем полка, приволок откуда-то огромный турецкий казан и устроил «пропарочную» для завшивевших мундиров и шинелей. Поступил строжайший приказ: чубы сбрить, из общей посуды не есть, ложки и миски, после еды, кипятить в котелках.
– И откуда хреновина эта берется, к примеру, вошь?… – спрашивал приказной Веденяпин, когда шустрый букановский казачишка Лабунцов, в мирной жизни лучший юртовой стригаль, на состязаниях по стрижке овец забиравший все призы, обскубал ему роскошные кудри и брил обломком косы голову налысо.
– Вошь есть первая казнь египетская, – пояснил строгий старообрядец Ермаковской станицы Савинов. – Вошь, саранча и прочее… Неоткуда она не берется. А проживает в человеке постоянно, и как он ослабевает в вере и предается тоске, так она и является наружу. Она упреждение казакам делает! Не унывай, держись в исправности! А коли он не внемлет, тогда является казнь вторая – трясовица, по нонешнему – тиф… Все от тоски, от уныния.
– А вот к примеру головы броем, а бороды нет…
– А в бороде да в причинном месте эта вошка не живет, тамо другая – в надсмешку даденая за стыдное дело! Чтобы чесался, да каялся. Он нее тифа не бывает! Смех один. – Побрейся да дегтем намажь, она и выведется.
– Так деготь до мяса проест!
– Да хоть бы и вовсе бесило твое, собачье, отвалилось! На войне не должно до бабы прикасаться! Сказано возле смерти – возле Бога! Ходи чисто – без вина, без баб и без денег…
Казаки согласно закивали, но когда весь полк вымылся, выскоблился и, переодевшись в чистое, вкушал отдых, с пехоты, повалившей в баню скопом, начали брать входную плату. Дело пошло так славно, что в соседнем сарае оборудовали баню для офицеров и даже имели с того полковой доход.
– А как же к деньгам-то не прикасаться? – подколол Осип Савинова.
– А вона какой приварок учинился…
– А топка-то с небес, что ли валится? Это на дрова!
Действительно, всю выручку тратили на дрова и тащили их расположение полка возами, и набрали столько, сколько топить баню хватило бы лет сто. Но вот ударили первые заморозки, и пошли казаки торговать дровами, чуть ли не рубль полешко. И такая пошла торговля, что Бакланов укорил полк на утреннем разводе:
– Казаки мы или жиды виленские? Вы во что полк превратили? Вот прикажу всю вашу поленицу сжечь!
Торговля поутихла, но не прекратилась. Потому вышла каждому казаку через месяц в жалованию по червонцу прибавки, а урядникам еще, сверх того, по пятерке.
– Всякая вещь служит к своей пользе, – изрек Савинов и купил на свой взвод самовар.
– Горазды, вы староверы, на дерме сметану искать! – говорили казаки других сотен.
– Кизяк тоже: из дерьма леплен, а тепло даеть… – парировал Савинов.
– Да уж ты-то на всем нагреешься…
– На то у меня от Господа разум, чтобы ему завсегда применение было. Потому и пьем чаек, да свой, а ты молчи, своёк, да рядом постой!
– Чтоб ты прокис, харя кержацкая!
За организацию банно –помывочного пункта сотник Рыкавсков получил от Бакланова наградные часы и пообещал полку по ведру водки на взвод, при окончании военных действий.
– Не сумлевайтесь, станичники, – обиженно констатировал Савинов, – пить энту сладку водочку будем в раю.
– Заглонесси…– было ему общим ответом. – В рай он нацелился! Тебя в аду с фонарями ишшут! Таких-то банщиков…
– Ужо, тамо-то тебя напарят! В рай он губу раскатил. Святой угодник…
Документы:
«Русско-румынские войска обложили Плевну с севера, востока и юга. На западе и юго-западе пути для противника были почти открыты. Особенно важным для осажденного гарнизона являлось Софийское шоссе, по которому армия Османа-паши получала продовольствие и боеприпасы. С целью удержания за собою этой важной коммуникации противник укрепил на шоссе пункты Горный Дубняк, Дольный Дубняк, Телиш и расположил в них вооруженные отряды. Чтобы окончательно блокировать Плевну, нужно было прервать его сообщение с Софией. Сначала сюда высылали конные отряды генералов Крылова и Лошкарева. Вскоре оказалось, что отрядов этих недостаточно. Требовалось овладеть укрепленными пунктами противника на шоссе. Задачу возложили на вновь сформированный отряд под командованием И.В. Гурко»
3. Донской № 23 казачий полк, едва собравший свои сотни в окрестностях Плевны, оставался в покое всего несколько дней, да и то покоем это считать было трудно. Ежедневно разъезды уходили на патрулирование дорог, возить почту, сопровождать грузы и разведку. Так что, пожалуй, правильнее сказать, что полк не пускали в дело… Так ведь и дел пока не было. Пришло пополнение. Бакланов по представлению офицеров, отправил в тыл ослабевших и обезлошадевших, в первую очередь семейных и многодетных. Строго настрого смотрели есаулы, чтобы казаки домой шли в новом обмундировании и, чтобы им писаря точно перевели на сберегательные книжки по 120 рублей за потерянных лошадей. Не возбранялось тут же продать седло и амуницию, но кто считал, что настоящую цену здесь взять нельзя, или по иной причине, волок все домой.
Отпускные уходили домой по-разному. Одни откровенно радовались, что удалось вырваться из этого кромешного ада. Другие сетовали, что ничего, кроме убытков, эта война им не принесла, но все разговоры смолкли, когда полк, в пешем строю, выстроился на прощальный развод.
День был серый, под цвет шинелей, время от времени порыв ветра, словно намокший полог палатки, шлепал казаков по лицам. Но в том, как молчалив был строй, как сосредоточены лица полкового хора музыкантов, чувствовалась, полузабытая в буднях войны, строевая торжественность.
В штабной палатке подполковник Бакланов, командиры сотен и офицеры штаба, в полной парадной форме, еще раз просматривали список отпускников.
– Ефрем Веденяпин, Кумылженской станицы.
– Хроническое воспаление легких, подозрение на чахотку.
– Антипа Саввин, Ермаковской станицы.
– Тоже самое. Лежачий.
– Прокофий Сатаров, Букановской станицы.
– Паховая грыжа.
– Откуда взялась? Что за чушь? Как же его мобилизовали?
– Бывает,– сказал толстенький полковой медик, – Поднял что-нибудь тяжелое и образовалась грыжа, а прежде не было.
– Сам натянул, – бухнул сотник Рыкавсков, – Служить не хочет. Знаю я таких то мастеров. Захотят беременными сделаются. Букановской станицы? Все правильно. Там и заговаривают грыжу, там и натягивают.
– Позвольте, – закипятился медик, и от возмущения у него даже очки запотели, а жиденькие белесые кудряшки, выдающие остзейского немца, поднялись дыбом.– Не вижу логики. Не вижу… Казак шел на войну охотником, а теперь вы его подозреваете.
– Тогда шел, а теперь передумал.
– Есть такие, что под действием порыва, минуты. А теперь поползал по редутам, да понюхал пороха, вот и заскучал…– сказал войсковой старшина, начальник штаба.
– Шел то он на одну войну, а здесь выходит другая, – вздохнул кто-то.
– Все мы войну другой предполагали. Тем более, пусть, с Богом, домой идет, полка не портит, – сказал Бакланов.
– Вот и получается, что лодыри и трусы останутся живы, дадут потомство, а наиболее полноценные, здоровые и честные положат головы. Вот так порода и вырождается…И нация слабеет, – усмехнулся командир второй сотни, с университетским значком на мундире.
– Вот ваша задача, чтобы лучшие остались живы. Вы же их командир, – спокойно ответил Бакланов. – По традиции казачьей – главное: живых отцам и матерям вернуть… Да у нас что-то плоховато получается. Извольте, господа все стараться! Все!
– Позвольте возразить вам, Петр Яковлевич, – вмешался полковой священник – у нас в полку потери значительно меньше, чем, скажем, у армейской кавалерии или пехоты. А вам могу сказать, что человечество тем и отличается от животных, что физика здесь определяет не все…
– А как же в здоровом теле здоровый дух?
– Именно дух. Дух!
– Господа мы отвлеклись…
– Это все контуженные… А это что за чудеса? Николай Сычов, Мигулинской станицы…
– Весь чирьями покрылся, – пояснил медик, – с ног до головы.
– А не цинга ли это, господа? Старообрядец? На одних сухарях? Понятно.
– Рановато для цинги, ваше превосходительство. Еще зелени полно…
– Не скрываю, – не скрываю, – Бакланов поднял от бумаг свое красивое лицо и отдаленно не напоминавшее страшный лик его героя – отца, – Смертельно боюсь цинги. Тут в окопах так пойдет… Пусть все что могут жуют. Побольше лука, чеснока. Пусть кровь пьют, наконец. Пьют же у нас казаки кровь?
– Старообрядцы не пьют.
– И вот вам результат…. Итак, тридцать пять человек! Многовато.
– Да среди них половина дезертиров.
– Не верю. Ну, может быть один, два… ослабели душой. Пусть уходят с Богом…
– Пора.
Офицеры подтянулись, разгладили на руках белые перчатки, откозыряв, побежали к своим сотням.
Старый денщик Бакланова, глядевший на него, как, наверное, великие мастера смотрели на свои полотна и скульптуры, восторженно и придирчиво, смахнул с плеча одному ему видимую пылинку.
– Фуражечку, чуть ровней… Вот на линеечку одну. Вот…
– С Богом!
Адъютант махнул за полог палатки.
– Иррря…Равнен…. – запели сотенные командиры
Грянул встречный марш, Бакланов перекрестился и шагнул их палатки.
– На крааааул!
Особый, ни с чем не сравнимый, шелестящей звук стали, звон, извлекаемых из ножен, шашек, заставил парад дрогнуть и замереть.
Перед замершим строем, продымленного и просвистанного пулями, обмятого в траншеях, истрепанного на горных перевалах, полка сначала вызвали пятерых полных георгиевских кавалеров – всех пятерых старослужащих и пошедших на войну охотниками, а затем вновь награжденных, среди которых оказался и, не ожидавший награды, Осип.
– Одним из первых ворвался в редут! Вынес с поля боя офицера, по решению Георгиевской думы, достоин Знака военного ордена третьей степени, – вычитывал начальник штаба.
И Осипу казалось, что это не про него, что это про какого то другого человека, который был много лучше и храбрее … Словно в тумане, он вышагал к знамени и отрешенно смотрел как к его шинели прикалывают второй Георгий. Награжденных было восемнадцать человек, и каждого расцеловал троекратно подполковник Бакланов. Восемнадцать награжденных стали чуть поодаль от офицеров штаба, рядом с полными Георгиевскими кавалерами.
– В честь героев троекратное ура! – скомандовал Бакланов и отсолютовал награжденным шашкой.
Отгремело, испугавшее коней у коновязей, раскатистое «Ура» и Бакланов продолжил:
– Братья казаки! Господа офицеры. Сегодня из наших рядов уходят наши товарищи! Уходят герои! – он возвысил голос, – Отдавшие все силы на служение Отечеству. Честь им и слава….
Из сотен стали выкликать отъезжающих, те, что могли, выходили парадным шагом к знамени, как предписывал устав, припадали на одно колено, целовали тяжелый шитый серебром его край. И тут происходило нечто, никаким уставом не предусмотренное. Один вдруг припал к знамени лицом и заплакал, а другой, повернувшись к полку, закричал срывающимся голосом: «Простите, братцы, Христа ради! Простите!». Но нерушим был ритуал, и голос его одиноко, словно крик-гомон, отставшего от стаи дикого гуся, повис над молчаливым парадом.
Подполковник Бакланов, пожимал руку и троекратно целовал каждого, уходившего на льготу. Ослабелый взбадривался, набирался сил на дорогу. А лукавый вдруг с ужасом понимал, что судьба вычистила его из полковых рядов. И теперь он один… Монолитный строй, в которым, всего минуту назад, стоял и он, ощущая себя его частицей, теперь сомкнул ряды и в этот строй ему больше нет возврата. Никогда. Что «славушка» полетит впереди него, и навсегда прилепится к нему и потомкам, аж до четвертого, пятого колена, в станице или в хуторе… И, возможно, потеряет он родовую фамилию, а приклеется к нему обидная уличная кличка, которую не отскоблить, как деготь от ворот. И превратяться его внуки, скажем, из Царевых во Бздишевых, и только станичный писарь будет знать, что это не фамилия, а прозвище. Клеймо за то, что «дед бздишинятов, Ванятка –Бздишей стал, воевать снервничал. Сбежал из под Плевны, когда весь полк тама оставался…»
Знамя поднесли к лежавшим на телегах, и те жадно целовали колючее серебро шитья.
– К прощальному маршу… Повзводно…. На восемь шагов дистанции.
Нестройной кучкой жались отъезжающие. И хотя они держали видимость строя, но был это уже не строй, а так… компания. И сразу было видно каждого, кто с чем покидал родной полк, будто попали они под гигантское увеличительное стекло.
С чахоточным румянцем на щеках и лихорадочным блеском в глазах, гордо смотрели на плывущие мимо ряды, действительно, больные и ослабелые, но горько плакал малодушный, решившийся спасаться в одиночку, бегущий туда, назад, к теплому боку печки и сытному станичному кулешу, оставлявший здесь на страдания, муку и, может быть, смерть самых близких своих людей… И не случайно неловко, пытался он, еще раз, приложиться к знамени, точно этим хотел искупить свой грех. Но строгий ассистент знаменосца сказал – отрезал:
Об знамя сопли не вытрешь!…
И побрел понуро тайный дезертир, который еще ночью радовался, что все сошло с рук, и покидает он военный ад, а теперь вот вся глубина его предательства явилась ему. Он убегал, а полк оставался. Но они оставались вместе, единые и чистые перед Господом, а он один со своим решением и судьбой… И желанная станица и дом родной уже не казались ему манящими. И, как говорили старики: «Больной отпускной дома поправиться, подберется, а, кто сбежал, затоскует да и сопьется….»
Священник благословил отпускников на дорогу, и долго еще видели они, сидя на тряских телегах, серые палатки, коновязи и коней, с вбитыми в землю пиками, и там далеко у горизонта, вспыхивающий зарницами выстрелов, передний край обороны, и совсем, крошечный, едва видимый издали, разъезд, спешащих от расположения полка к траншеям Плевны.
4. Такие разъезды уходили в сторону турок каждые два часа, будто тонкие щупы, постоянно, тянулись они к самому переднему краю. Зорко высматривали казаки каждое малейшее изменение в боевой остановке. Не «замыленным» взглядом, уставшего от однообразной окопной жизни, пехотинца, а цепкими глазами степняков, волков войны, схватывали они каждую новую турецкую траншею, каждый лишний дымок над бруствером турецких окопов и, по крупице, собирая сведения, доносили их в штабы.Донской № 23 казачий полк входил в конный отряд генерала Лошкарева,
и, не единожды, в составе конницы, ходил вдоль Софийского шоссе к Горному и Дольному Дубнякам, и к Телишу.
Бывало это так: эскадроны драгун или гусар оставляли казаков далеко позади, поскольку донцы шли повзводно и старались тянуться по обочинам, где и грунт был не так разбит копытами, да и посуше. Вблизи предполагаемых турецких позиций кавалеристы спешивались, отводили коней, ложились в стрелковые цепи, а для казаков выпадала самая тяжелая служба – освещать фронтовое пространство – так это называлось на языке донесений.Выносились вперед, в неизвестность, несколькими звеньями, и постоянно меня направление, чтобы сбить с прицела стрелков, если они были за ближайшими укрытиями, скакали к лесу или к насыпи, где мог быть противник.
У Горного Дубняка, за открытым вспаханным полем, были густые кусты. Казаки выдвинулись вперед и, оставив пики, врассыпную, поскакали к темнеющей за полем полосе.Осипу приходилось так скакать не первый раз, и не первый раз он летел будто в омут, каждый раз ожидая, что вот оно свистнет над ухом … Хотя знал, что ту, которая в тебя – не услышишь!…Разъезды, как стрелы, пущенные наугад, рванулись веерной россыпью. Осип, оставляя Шайтана за жестким поводом, (опасался как бы конь не поволок его к туркам), пошел справа от основной группы, той, что зигзагами, двигалась в лоб на преграду.
Ах, это горячее дыхание коня и сердце в горле! И каждой клеткой тела, остро ощущаемое дыхание опасности, смерти, и заставивший вздрогнуть, пронзившей будто иглой, кажется, даже позвоночник, треск ружейного залпа. Есть! Напоролись!
Краем левого глаза Осип увидел как Тимофей Алмазов, Букановской станицы, выгнулся, будто от удара кнутом, и пал коню на шею. Конь, веденный с дома, забился и почти ложась боком на пашню, повернул назад, к своим. Второй казак Ефрем Фролов из Кумылженской, рухнул, как сноп, на землю.
В ту же секунду, пока стрелки не перезарядили ружья, Осип повернул Шайтана налево и полетел вдоль кустов, сбивая прицел, рассчитывая собою и конем закрыть туркам видимость, когда, (А уж это обязательно!) казаки из прикрытия кинуться поднимать упавшего. Он знал, что пока он летит, на расстилающимся по земле, Шайтане, двое казаков уже несутся, во весь опор, к упавшему, он видел, как разом наклонившись с седел, они, на полном скаку, подхватили товарища, будто куль с сеном, и поволокли его назад к дороге, где залегал спешенный эскадрон драгун. Турки грохнули залпом еще раз и пули, как шмели, зажужжали вокруг Осипа, но он уже чувствовал, что мимо, что не успели прицелиться… Что, ежели Алмазов и Фролов были на мушках стрелков от самой дороги, то тут стрельба была в белый свет, на удачу – авось какая попадет… Когда Осип подскакал к дороге и повалился с седла в канаву, там уже сидел раздетый до пояса Тимофей Алмазов. В сумерках белело, мягкое словно тесто, его тело и по ребрам черными лентами текла кровь. Трофимыч ножем выковыривал пулю, застрявшую у казака между ребер. Двое казаков держали Алмазова за руки, хотя, собственно, это он вцепился в их руки жилистыми, будто жгутами перевязанными руками.
– Воооо – стонал он, – как смагануло! Слава Господу, в ребра! Я думал в живот… Ыыыыыхх…
– Есть! – сказал Трофимыч выкатывая из под кожи черный окровавленный свинцовый сгусток, – Лейте водку.
Алмазов поднял на Осипа, мгновенно осунувшееся, белое как мел, лицо в черных провалах подглазьев. – Во, как обошлось… Слава Богу. Я думал – все.
– Чего видал помнишь? – спросил хорунжий Цакунков. – Ты первым был…
– За кустами – траншея, а за траншеей – увал и дале, редут. Все, как есть, с амбразурами – чин-чинарем. – торопливо стал говорить Тимофей, пока молчаливый санитар обвивал его бинтами: – Я еще подумал – вот как сейчас он дасть из орудий…
– Охота им на тебя снаряды тратить! – усмехнулся Трофимыч, – Они пехоту подождут.
– Без пехоты никак – согласился Алмазов. – Тута конницей не пройти. Пущай пехтура штыками ковыряется…
– А ты чего успел разглядеть?
– Справа, навроде, орудие – сказал Осип – Вооон там. За бруствером стоит. А здесь прикрытие проложено, за кустами. По стрельбе судя, роты две…
– Я в лазарет не пойду. Ваше благородие, не везите меня в лазарет…Я в полку отлежуся… Тамо у них в лазаретах болезни… Я лучше в полку.
– Ладно, ладно, – говорил хорунжий. – Видно будет…
– Вот, Осип, вишь, мне какое счастье, – говорил Алмазов. – Видать сильно мать молится. Прямо вот ведь на редут летел, а пуля всколизь по ребрам пошла, и там еще две по ноге, но те, вовсе, не в счет… Вот ведь счастье.
– Сажайте его ровнее… Это он сейчас в кураже, а ослабнет – повалится.
Казаки подняли, укутанного бинтами, Тимофея на коня. Пообняли его, схвативши с двух сторон, он болтался, приваливаясь то к одному, то к другому, как тряпичный.
– Посуньте ему под спину пику, не то ружье, чтобы опора была…
– Не учи отца е…ца. – сказал суровый бородач, обнимавший Тимофея. – Мы че по жопу деревянные? Знамо: он сомлеет да оползет … Мы его сейчас скошевкой прихватим…поперек седел, под спину ружье и к плечам ружье.
– У тебя, сказывают, сын родился? – спросил Осип Алмазова, чтобы отвлечь его от боли.
– Ну! Четвертый месяц! Домой ворочусь уж бегать, небось, будет!
– Назвали-то как?
– Прокофием. Прокофий, значит…Первенец! Прямо мне все время – счастье! И вот ранило не до смерти, а боль то я стерплю…Чего там…
Двое казаков, держа, бережно, Тимофея под спину, шагом двинулись по дороге.
В канаве, будто тюк, увязывали в шинель мертвого Ефрема Фролова.
– Чего там? – спросил Осип.
– Две в грудь, одна в голову – разнесло как арбуз.
Артиллерийский прапорщик, бывший с казаками, торопливо набрасывал кроки предполагаемой турецкой позиции.
– Осип, подсоби!
Ефрема закинули поперек седла, прихватили, чтоб не сполз, запасной подпругой.
Взвод потянулся назад к Плевне.
– Ну, что! – сказал Устякин, стоявшим под горою коневодам драгунского полка. – Сбирайтися за нами. Тута кавалерии делать нечего. Надо пехоту дожидать, да с артиллерией…
– Много что-ли турок? – спросили из цепи спешенных драгун, лежащей вдоль канавы шоссе.
– На вас хватит, ишо и на нас останется…
Такие потери в сводках отмечались как незначительные. Но 23 Донской подполковника Бакланова полк таял, ежедневно, теряя людей и коней. Ежедневно конные отряды прощупывали оборону турок вдоль Софийского шоссе, наконец, в штабе поняли – оборона серьезная и брать ее должна пехота, после хорошей артиллерийской подготовки. На Дубняки и Телиш пошла гвардия.
Документы:
«После переправы через Дунай Гвардия была двинута к Плевне, где после третьей неудачи, 30 августа, решено было сосредоточить достаточные силы для овладения этой твердыней.
На пути нас встретил Государь; вид Его поразил нас; Он исхудал, лицо было землистого оттенка. Объехав полк, Государь вызвал офицеров и в своем слове сказал, что «рад видеть мою старую команду».
Было время, когда Государь служил в нашем полку, а в 1839 г. Он им командовал.
Государь сказал нам, что 6 августа, в день нашего полкового праздника, Он так плохо себя чувствовал, что не мог достоять молебна.
Главнокомандующий Великий князь Николай Николаевич произвел на нас бодрое впечатление; он легче переносил невзгоды войны и тяжелую ответственность; мы тогда, конечно, не знали, какие были трения между ним и Государем, те трения, которые Великий князь предвидел и изложил в письме к Государю в ноябре 1876 г. из Кишинева, о чем я уже писал ранее.
Гвардия продолжала поход и была предназначена для занятия с боем турецких позиций в тылу Плевны, к юго-западу от нее, где проходило шоссе из Плевны в Софию – единственный путь, по которому проводился в Плевну подвоз всего необходимого и по которому противник мог уйти из Плевны.
Мы стали биваком на правом берегу р. Вид, а на противоположном – были турки. Те места, где мы стояли, уже были использованы турками и нашими войсками, и трудно было добыть что-либо съестное, а купить не у кого, так как почти все население ушло из этих мест».
5. Баня стала как бы клубом и местом отдохновения, куда после каждого выхода шли обмываться или попросту греться, казаки. И славно было после долгой езды по раскисшим дорогам , под пронизывающим ветром или бесконечным дождем поставить коня в крепкую быстро построенную конюшню, замыть ему щетки над копытами во избежание мокреца и прочих напастей от сырости, растереть его усталого соломенным жгутом, размассировать плечи, холку, намятую на походе, задать корм и тогда развесив на просушку потник и седло, пойти в баньку , что топилась и днем и ночью, и, может даже не раздеваясь, посидеть у остывающей каменки, обсушиться, отогреться. Здесь, однажды, совершенно неожиданно, спросил Трофимыч Осипа, разомлевшего и задремывавшего от тепла: