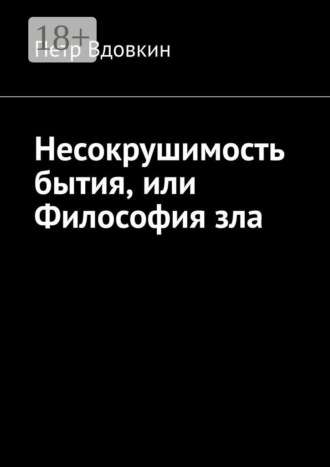
Полная версия
Несокрушимость бытия, или Философия зла
Выговаривайся кустам. Так рек зеленый странник. А здоровяк все говорил и говорил:
– Теперь же я перейду к доказательствам. Какая главная часть искусства для творца? Получать удовольствие во время работы над своим творением и получать удовольствие после работы. В первом случае это удовольствие индивидуальное, я бы даже сказал интимное. Почему? Да потому, что автор находится наедине со своим плодом, он вкладывает в него личное, внутренне и потаенное. Плод становится отражением автора, его прямым продолжением не как самостоятельный ребенок, но как единственное существо, которое полностью понимает автора, разделяет не только его сомнения, страхи, но радости и, самое главное, мысли. А какое удовлетворение может посоперничать с полным принятием? Половое? Нет. Удовлетворять плоть безгранично приятно, но внутреннюю пустоту, если она имеется, плоть не заполнит. Удовольствия плоти могут забить, отодвинуть внутреннюю пустоту. Но заполнить ее может только одно – принятие, поэтому искусство для творца – самое сладостное из наслаждений, потому что удовлетворяет тот глубинный слой разума, который никаким иным способом удовлетворен быть не может. Какого же рода удовольствие автор получает после создания произведения? О, это удовольствие другое, но не менее важное и сильное. Принятия внутреннего достичь почти невозможно, хоть и искусство в этом помогает. Гораздо проще достичь принятия внешнего. Всегда найдется кучка (или совсем незначительная, или средних размеров, или необъятная) тех, кто полностью разделит мысль автора. Это ли не удовольствие – знать, что где-то, среди других смертных существ, есть кто-то, кто близок к тебе по духу! Также всегда найдется кучка, которая будет согласна с автором лишь отчасти, и это тоже приятно. Ведь подобное есть не что иное, как проявление разума. Именно такие смертные, наполненные противоречивым отношением к автору, смогут отнестись к нему якобы объективно и дать поистине дельную рекомендацию. Именная эта группа может научить творца чему-то новому, убедит его работать дальше. Почему? Потому что безграничная и слепая любовь к творению автора не сможет указать на ошибки, не сможет толкнуть на новый подвиг – любовь ведь уже завоевана, зачем стараться дальше? Куда приятнее завоевывать все новые и новые сердца, чем киснуть с одними и теми же рожами. Но осталась и третья группа. Эта группа такая же вечная, как и прочие. И имя этой группы – ненавистники. Ненавистники – самые потешные и разнузданные последователи автора. Только они могут объявлять о своем восхищении такими понятиями, какими смертные обычно друг друга наказывают. А это уже достижение – довести смертного до такого состояния, чтобы он проклинал любя и любил проклиная. Ненавистники – лучшее, что может случиться с автором. Ибо только они могут раструбить об авторе так, что о нем услышат все. Другие группы на это неспособны. Только ненавистники будут следить за каждым шагом творца, за каждым его высказыванием, у других групп могу быть и прочие дела, но только не у ненавистников. Ненавистники – лучшее топливо. Если автора ненавидят, значит, он все делает правильно. За что обычно ненавидят смертные? За то, что им не нравится. Но «нравится» или «не нравится» всегда пролегает в параллельной плоскости с действительностью, то есть с мирозданием. Мирозданию плевать на желания и чаяния смертных. Лучшее тому подтверждение – отсутствие как прижизненной, так и посмертной справедливости. Но это не тема моего разговора. Так вот, мирозданию плевать на желания и чаяния смертных, и смертным страшно в этом признаваться. Ибо если признать эту ужасную мысль, можно сойти с ума от горя и безысходности. Для этого смертные и придумали якобы объективные определения правильности и неправильности, к которым часто, вопреки логике, привязывают также «нравится» и «не нравится». С той лишь разницей, что иногда «нравится» у смертных правдиво передает чувства, но куда чаще «нравится» с легкой руки превращается в мудреные конструкции. И конструкции эти маскируются под что-то важное, на деле эти конструкции – не более чем «нравится» и «не нравится», только заявляемые другими, более учеными словами и запутанными формулировками. А к чему я все эти мысли излагаю? – вдруг спросил Рапсот у порождения. То ответило.
Если творца ненавидят, значит, он делает все правильно.
– Да, точно. Почему так? Оттого, что автор не побоялся высказать определенную идею, которую высказывать не принято. Художественное произведение – не наука и не действие. Художественное произведение просто набор букв, звуков, цветов, движений или синтеза нескольких этих элементов. Художественное произведение не может повлиять на мировоззрение смертного. Вернее может, если смертный идиот и не отличает окружающее бытие от авторской фантазии, которой вовне объекта, где эта фантазия заключена, вовсе не существует. Есть ли текст книги как физическое явление? Нет. Есть ли музыка вне звуков, которые поют инструменты? Нет. Есть ли танец без танцора? Нет. Есть ли картина или статуя? Да, есть, но только как физический объект. Тот образ, что передает картина или статуя, существует только в разуме смертного, в его жизненном опыте, понимании и прочем. Картины и статуи на деле мертвы. В них нет ничего. Разум наделяет их чем-то, а не бытие. Поэтому художественное произведение чистейше безвредно и, будем честны, бесполезно. Зато очень приятно. Смелый автор всегда интересен. Не важно, вызывает он радость или грусть, веселье или уныние. Важно, что он и его труд вызывают удовольствие.
Но если автор скучен, и вместо удовольствия вызывает одно опустошение?
– Тогда в бездну такого автора! Бросить его тоже удовольствие! Ха-ха-ха! Кажется, я еще говорил о том, что потребитель искусства тоже знакомится с плодами авторов лишь для себя? Да, я говорил такое. Ну, расскажу и об этом. Есть всего одна причина, почему смертные знакомятся с чарующим миром искусства. И причина эта, как уже понятно, – удовольствие. Смертные могут выдумать тысячу и одно оправдание, почему главной причиной является не удовольствие, а что-то иное, но все эти оправдания – кристально-чистая ложь. Но сначала я хочу поговорить о природе этой лжи. Почему смертные не признаются, что любят искусство ради собственного удовольствия? Все просто. Признаться в этом – верх голого цинизма, на такое мало кто готов пойти. Почему? Трусость, полагаю. Теперь же я подробно разберу все известные мне оправдания смертных. И начну я с самых мощных и незыблемых. «Я познаю искусство, чтобы много знать, быть образованным и культурным». Этот случай забавен и ироничен, так как каждое слово пропитано невероятным эгоизмом, но при этом такой эгоист еще смеет отрицать, что искусство он постигает ради удовольствия. Зачем смертному много знать? Ему так приятно. Зачем смертный стремится к образованию? Чтобы сделать приятно себе. Зачем смертный хочет быть культурным? Опять же – ему так приятно. Все три тезиса, и все про удовольствие. Почему же общий вывод должен быть не про удовольствие? Согласен, это подмена понятий. Поэтому выскажусь так. Если все три тезиса заключают в себе удовольствие, то и общий вывод тоже подводит к эгоистичному удовольствию, так как об иных причинах подобный индивид и не задумывается. Или, вот, другой пример. «Такое-то произведение сейчас известно, мне нужно с ним ознакомиться». Казалось бы, естественное проявление любопытства, но нет! Если смертному было б любопытно это произведение, он бы с ним уже ознакомился. Дело не в любопытстве. Смертный говорит не о себе, не о произведении. Ключевое в его словах – известность произведения. А это проявление стадного инстинкта. Смертный боится, что общество отвергнет его, поэтому и хочет приобщиться к этой части искусства. Но где здесь удовольствие? Все просто – удовольствие в том, что смертный не выпадает из общества. Во всяком случае, его бессознательное так считает. Следующий пример. «Ой, автор так похож на меня, он поднимает темы, которые мне близки». Или «ой, персонажи так похожи на меня, они поднимают темы, которые мне близки». Тут даже не нужно тратить время на объяснение. Удовольствие получается от приобщения к тем мыслям, что близки индивиду. Смертным всегда приятно, когда они встречают единомышленников. Еще пример. «Ну, я слышал, что это произведение великое; надо бы ознакомиться». Смертному приятно чувствовать себя выше других. Это ли не удовольствие, знать то, чего не знают другое? Это ли не удовольствие – обладать тем, чего нет у других, пусть смертный обладает всего лишь знанием? Очередной пример. «В этом произведении искусства поднимаются сложные темы». Или «это произведение учит хорошему.» Или «это произведение невероятно грязное». Или «тут много профессиональной информации, мне будет полезно узнать». И так далее. В этом примере можно подставлять любое высокопарное слово, и смысл сохранится. Где же тут удовольствие? О, здесь удовольствие другого рода. Оно даже может, при поверхностном взгляде, отсутствовать. Не удовольствие ли узнать что-то правильное? Удовольствие. Не удовольствие ли приобщиться к чему-то грязному и запретному? Удовольствие. Не удовольствие ли усовершенствовать свои навыки? Удовольствие. Это все есть удовольствие! Ух, у меня в голе пересохло, надо б смазать.
Здоровяк потянулся к фляге, но не нашел ее на привычном месте. Остановился. Руки забегали по всему телу, но фляга так и не нашлась. Не нашлась она и в рюкзаке.
– О нет, нет! – начал сокрушаться Рапсот. – Нет-нет-нет! Мы не можем идти дальше! Я потерял свою фляжку с rомом! Проклятье, где же я мог ее обронить?
Он принялся ползать на четвереньках. Заглядывал гимнопевец под каждую травинку, под каждый кустик. Под камнями смотрел он, но фляжка пропала бесследно.
Порождение заметило, что красота озера в сотню раз ярче, чем глоток rома, на что гимнопевец ответил:
– Да как я буду красотой на трезвую голову любоваться? Как без rома ко мне придет вдохновение и мудрость? Никак! О горе мне! Где же я мог ее утерять? Где?!
Жестянщик остановился.
– Без rома мне не видать безграничной мудрости. Так уж и быть, озеро я посещу трезвым. Но запасы rома нужно пополнить! Мы сможем посетить один городок?
Конечно же, да – молвило порождение.
Конечно же, нет – молвил странник.
– Я так и знал, что мы пополним запасы rома! Вы двое – настоящие друзья. Давно не ощущал такой поддержки. Какое счастье, что я встретил вас в этой лесной глухомани!
Путь продолжился.
Отряд очутился перед огромным земляным провалом. Шириной он был около сотни метров, а глубиной такой, что солнце не могло достать до дна. Эта страшная пропасть окружала, подобно крепостному рву, огромное плато. На нем ничего не росло, кроме мелких травинок, и только в центре поднимались к небу вековые деревья.
Среди этих деревьев и покоится озеро, так сказало порождение.
Космические сущности преспокойно полетели над раззявленной каменной пастью. Вскоре их одернул крик гипнопевеца:
– Эй, ребята, подождите меня. Сейчас я что-нибудь придумаю.
Наконец, сланая идея пришла в славную голову, и здоровяк проглотил огромный ком воздуха. Встал спиной к провалу, взял наизготовку Забойщика легенд и…
И это нужно было видеть. Страшный взрыв сотряс, кажется, основы мироздания, а могучий здоровяк пролетел над пропастью, как если бы им выстрелили из рогатки. Полет его был долгим, и, если бы не встреченный им по пути древесный ствол, он бы смог долететь до самого экватора планеты.
Когда же космические сущности приблизились к обломкам, которые остались от деревьев, они нашли хохочущего Рапсота. Он поднялся, отряхнулся, вытянул из башмака застрявшую ветку и спросил:
– Знаете, за что я люблю музыку?
Но сущности – одна деликатно, другая грубо – ответили, что не очень.
– Музыку я люблю именно за это. Если одновременно рыгнуть и дернуть струны образуется звуковая подушка, которая незамедлительно лопается. Это очень громко и весело. Но сейчас она помогла мне преодолеть эту пропасть. Воистину, музыка – великая сила!
И маленький отряд углубился в заросли.
Озеро нашлось быстро. Девственная прозрачная вода отражала каждый лучик и искрилась нежным золотом.
– Какая красота… У меня… У меня даже… дыхание перехватило. – Здоровяк протер глаза. – Что это? М-м, соленое. Я плачу? Я плачу! Это так красиво! Никаких слов не хватит, чтобы описать мое вдохновение! На меня будто обратила взор сама богиня красоты. У меня не хватает слов описать это божественное великолепие. Я поражен. Я поражен! – И этот гигант мысли, этот здоровяк, что перерос два метра, рухнул на колени перед самой кромкой воды. Он плакал навзрыд, и слезы его смешивались с озером. Почему он проявил такую сентиментальность? Он этого не знал. Не мог знать. Но мог чувствовать! Его обняла вся нежность мира. Все прекрасное, что есть в смертных существах, наполняло его сердце. Раньше никто не обнимал его так. Поклонники любят его, не любят, а любят. Они ценят его не за личность, но за музыку. Они восхищаются не им, но талантам его. Те же, тот же, от кого Рапсот хотел получить любовь, получить признание… Впрочем, это не важно. И гимнопевец согласился с этим утверждением. Это не важно. Слезы помогают забыть все дурное. Слезы помогают справиться с огорчением, с разочарованием. Слезы вымывают из души все горькое. И гигант, плачущий здоровяк, понял, что озеро волшебное. И прикоснулся он губами к воде, собрался сделать глубокий глоток.
Но визгливый возглас прервал его. Рапсот повернулся к источнику нечленораздельного выкрика. Это был тощий мужчина неопределенного возраста. Под его тонкой прозрачной кожей были видны почти синие нити вен, а сам он казался призраком, призраком сутулым и недовольным. У него был круглый живот, от которого отходили безвольные руки, пружинящие ноги и длиннющая шея. На шее болталась, как перезрелый плод, вытянутая голова. Глаз видно не было – на самую переносицу были натянуты непрозрачные круглые очки. Светлые жирные волосы небрежно свалялись. Одет он был во все синее и очень пыльное.
– Не смей пить из озера! – сказал незнакомец.
– Почему? Озеро ведь так прекрасно! Я хочу, чтобы частичка ее красоты была и во мне!
– Ты видел озеро? Этого достаточно. Ты и так получил больше красоты, чем следовало бы.
– О чем ты говоришь? И почему красоту ты называешь красотой?
– А ты не знаешь? Это озеро проклято!
– Вот как?
– Да-а! Оно проклято.
– Кто же его проклял?
– Они.
– Они?
– Они.
– А кто это?
– Тебе лучше не знать.
– Отчего же?
– Потому что.
– В самом деле?
– Да.
– Да? Всего-то?
– Да. А чего ты хотел?
– Нет.
– Что «нет»?
– Я хотел услышать «нет». Этого я хотел.
– Понятно. А зачем?
– Так надо.
– Кому?
– Мне.
– Почему?
– Нужно.
– Кому?
– Мне.
– Понимаю, понимаю.
– В самом деле?
– Конечно же!
– Конечно же, нет?
– Нет.
– Я так и знал!
– Нет. Конечно же, да!
– Что «да»?
– Конечно же.
– Вот оно как получилось.
– А то! Но отчего?
– Я уже сказал. Потому что.
– Нет, я не про это. Я про то. Почему нет?
– А, понял. Сначала не понял, а теперь понял.
– Так почему нельзя знать?
– Это опасно.
– Чем?
– Лучше и не знать!
– Не поспоришь. А в чем суть проклятия?
– Это сущий кошмар.
– Я не боюсь страшилок. Говори.
– Ты не выдержишь этой правды.
– Нет, выдержу.
– Уверен?
– Уверен. Видишь, какой я большой и сильный?
– Вижу, но что толку? Вдруг ты большой и сильный только снаружи, а внутри ты маленький и слабый.
– Нет.
– Чем докажешь?
– Не я считаю себя большим и сильным, а мои соплеменники.
– Это о многом говорит. Хорошо, я расскажу тебе о сути проклятья. Но будь готов – ты больше не будешь прежним.
– Переживу.
– Переживешь, но это может изменить тебя.
– Я не боюсь изменений. В детстве я был маленький, а сейчас я вырос. Это ли не изменение?
– Логично.
– Теперь расскажешь?
– Я все еще боюсь за твой рассудок.
– Я гимнопевец, какой у меня рассудок?
– Не имею понятия.
– Я тоже.
– Ты это к чему?
– Как можно бояться за то, что не развито? Я продукт искусства, а не науки. Я мало пользуюсь разумом. Я познаю мир чувством. Разумом я пользуюсь только, чтобы отыскать rом.
– Rом – это яд.
– Все есть яд. Даже кислород. Важна доза.
– Rом всегда яд.
– Яд всегда лекарство. Яд становится ядом не в тех руках. В тех руках яд – лекарство.
– Да, но rом никогда не был лекарством. Его выдумали чудища прошлого, чтобы превращать будущие поколения в чудищ.
– Я не чудище.
– Пока нет.
– И то хорошо. Извини за нескромный вопрос, а ты вообще кто?
– Я?
– Да, ты.
– Я не «да».
– Как тебя зовут?
– Зачем меня звать?
– Не знаю.
– Если не знаешь, зачем хочешь меня звать?
– Я и не хочу.
– Почему?
– Я не знаю, как тебя звать.
– А ты хочешь?
– Чего?
– Позвать меня.
– Пока нет. Потом – возможно.
– Зачем?
– Пока не знаю, потом, может, узнаю.
– Мудрое изречение.
– Да, я знаю. Так имя у тебя есть?
– Да.
– Какое?
– Нет, я не Какое.
– А как?
– Нет, я не Акак. Я Ко́нспи.
– Конспи?
– Да, Конспи.
– Так Конспи или Даконспи?
– Конспи.
– У тебя красиво имя. Я Рапсот. Вот эта черная космическая сущность просит называть себя порождением, а зеленая – странником.
– Приятно познакомиться.
– Так в чем суть проклятия.
– Какого?
– То, что висит над озером.
– Это очень страшно, очень. Ты уверен, что хочешь узнать это?
– Мы это уже обсуждали.
– И к чему мы пришли?
– Не помню.
– Я тоже.
– Что будем делать?
– Не знаю.
– Я тоже не знаю.
– Может, я тебе все же расскажу о проклятии?
– А давай, рассказывай.
– Это по-настоящему страшно. Вода в озере не кипяченая, и в ней могут обитать глисты.
– Глисты?
– Именно! Глисты. А еще болезнетворные бактерии!
– Разве глисты – это проклятие?
– Несомненно.
– Я не про это. Глисты, разумеется, проклятие. Но то ли проклятие, о котором принято говорить, что это проклятие?
– Мне это не важно. Глисты – проклятие. Значит, озеро проклято.
– Да, это закономерно. Но только ли глистами ограничивается проклятие? Глисты прокляты, спору нет, однако есть ли тут еще какая-то тайна?
– Конечно. Конечно!
– Так рассказывай скорее.
От неожиданной просьбы Конспи замялся. Его никогда не просили рассказать о чем-то. Обычно он сам приходит и начинает говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить…
– Рассказывай! Я настаиваю. Мне интересно послушать. Быть может, твой рассказ вдохновит меня сочинить новый гимн. «Проклятая водица» – как тебе название, а? Согласен, мне нужно подумать еще. «Что глист, что вода – одна х**та»… Лучше звучит, верно? Верно. Какой образ получается! Ты только вслушайся! Что глист… Что вода… Одна х**та! Или нет, еще так можно: «Отводичкался». Кажется, я перебиваю тебя. Умолкаю, умолкаю.
– Это озеро прекрасно, – заговорил сутулый. – Оно состоит ровно из миллиона слез ангельских дев, что их пролили здесь в незапамятные времена. Эти прекрасные создания полюбили одного смертного, но так и не смогли поделить его меж собой. Жадность и алчность затмила им разум, и они разорвали несчастного на мелкие кровавые ошметки. Весь лес забрызгало кровью, кишки трижды обвили этот мир, а органы утопли в бездонной расщелине и образовали в ней дно. И даже после трагической и незавидной гибели прекрасного юноши, ангельские девы продолжили свои споры. Они боролись за каждый кусочек мяса, за каждый метр кишковины, за каждую тухлую селезенку. Спустя десятки тысяч лет после содеянного, девы начали прозревать, что же они наделали. Сначала их переполнил гнев. Они бросались взаимными оскорблениями, драли друг другу золотистые волосы, щипали белоснежную мягкую кожу, вонзали тончайшие алмазные иглы под ногти. Но потом гнев их сменился отчаянием. Они рыдали сотни лет. Слезинка за слезинкой они наполняли котловину, где умертвили своего возлюбленного. Так и образовалось это озеро. Но не эту историю я хотел рассказать. Ангельских дев этих никогда не было! Их придумало примитивное сознание первых Оставшихся, которые не смогли познать суть вещей. Но я – не они. Я далек от примитивного мышления. Я да-а-авно понял, что Оставшиеся врут друг другу. Врут они как о вещах маловажных, так и о вселенски важных. И это озеро – наглядный тому пример. Не было ангельских дев, не было миллиона слезинок. Но что было? Великий анхрап Доа Фанеуи притронулся своим гаграшака к земле, и в том месте образовалась великая палитра Гигжи-дао-а. Из нее родились девять сестер-хехек. Девять сестер-хехек устроили варгх. После варгха они устроили фаргх. После фаргха они устроили баргавх. И после баргавха они устроили тренгшалахафф. Из тренгшалахаффа они генуриловали, а после теренгулировали. Это привело к деумерилизации. Которая, в свою очередь, позволила случиться такому событию, как неукаринотеку. После неукаринотека сестры, подвергшиеся деумерилизации, а перед ней теренгулированию и генурилованию, наконец смогли образовать неникогу. Неникога позволила родиться Ашшуршарушшу. Ашшуршарушша помог своим деумерилизованнй матери и выделил из харетека жижилость. Жижилость толкнулась с орергом. Орерг, обретший жижилость, ожил и назвался Карином, или же – Карикарином. Карикарин убил анхрапа, но не Доа Фанеуи, а его брата близнеца с таким же именем. Да, изначальный анхрап Доа Фанеуи выжил. Он почувствовал смерть своего близница, и навеки проклял Карикарина. После чего его звали Суриканарином. Но суриканарин не угомонился, ибо жаждал овладеть великой шио-гаро, что текла по телу Доа Фанеуи вместо крови. Суриканарин выследил Доа Фанеуи. Он дождался, пока великий анхрап заснет, и перерезал ему глотку. И в том самом месте, где с ножа, названного позднее Кариканои-каринон, стекла одна капля шио-гаро, там и образовалось озеро, подле которого мы все сейчас стоим. Вы можете посчитать эту историю бредом, но вынужден вас заверить – эта история основана на самом достоверном источнике. Однажды я переел горохового супа, меня разморило и я лег спать посреди дня. Сон мой был тяжелый. Беспокойные образы терзали меня, я ворочался, барахтался, пускал слюни. И вот, тяжесть дневного сна отпустила меня, и я, все еще бывший во сне, увидел, как белое перо опускается на водную гладь. Оказалось, что супчик из меня успел выйти. Да, и вышел он из меня, пока я спал. Досадно получилось, но не более. Я опять поел супчика, потому что желудок мой пустовать не должен. Желудок мой питает мозг, а в мозгу е меня хранятся целые библиотеки! И их нужно как-то поддерживать. Так вот, после того, как я пробудился, я вдруг осознал себя бесконечно малым телом среди бесконечно огромного космоса. Доев суп, который вышел весьма вкусный, я пошел гулять по городу. У меня было некое наитие, и я прислушался к нему. Думал я об озере, этом озере. И вдруг я понял, что любой знак, который я поймаю за свою прогулку, и поведает мне подлинную историю сего водоема. Бродил я по улице дня два. Без сна, без пищи и воды. К концу прогулки мозаика эта у меня в голове сложилась. И мозаику эту я вам только что рассказал.



