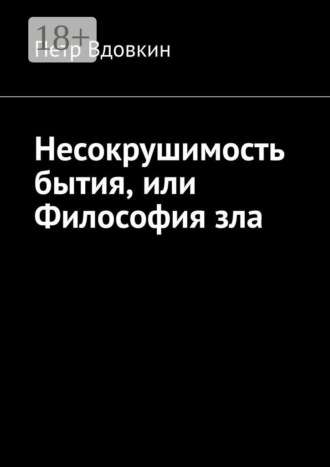
Полная версия
Несокрушимость бытия, или Философия зла
А ведь эти шепотки могут рассказывать истину. Могут! Вероятно, они истину и рассказывают, но подают ее так, как выгодно злу.
Подошел черед и третьей колонны быть открытой книгой.
Ложь пропитывает наше собрание. У нас нет доверия. И я говорю не о доверии друг к другу, я говорю о доверии к самому себе. Мы ведь сомневаемся не в других, а в нас самих. А это – самое ужасное, что можно представить. Мы потому и собираемся здесь, ибо не ведомы нам сомнения. Но эти страшные учения, эти злые философии, что гуляют по умам наших соотечественников, они подтачивают не общество. Нет. Они в первую подтачивают нас, а уже мы разрушаем наше племя. Нам нужно отбросить все сомнения!
Южный ветер подул и освежил участников разговора. Старейшина сказал, что в сомнениях нет ничего ужасного. Плохо, когда Ушедший следует за сими сомнениями в самые глубины гадеса, ибо сомнения ничего, кроме страданий, не несут. От страданий, вызываемых сомнениями, можно избавиться, если победить сами сомнения. Звучит просто, легко. Но это тяжело. Поэтому многие, вместо борьбы, выбирают бегство. А от страдания убежать можно единственным путем – причинить страдания кому-то еще. А это уже преступление. И такими преступлениями Ушедший в гадес и спускается.
Быть может, это зло, что распространяется по нашим владениям, и не зло вовсе? Быть может, это естественная социальная эволюция, которая принимает некую резкость суждений? А все потому, что идеи эти новые, поэтому они еще не знают, как лучше выражаться, как лучше показываться, как лучше заявлять о себе?
Очевидно. Скорее всего, так и есть. Возможно.
Возможно? – возопил старейшина и замертво рухнул. Собрание окружило первого среди равных. Он был мертв. Лицо его скривилось. Нет, перед смертью он боли не чувствовал. Он почувствовал ее после смерти. Ибо смерть открыла ему истину. Но этой истиной ему уже ни с кем не удастся поделиться. Ибо только от смерти можно ее узнать. Только смерть знает ответ, только она вправе вкладывать смертным это знание в самый последний момент. Одна лишь смерть.
Порождение собрало осколки колонн и принялось их восстановливать. Заботливо, кусочек к кусочку, оно возвращало им прежний вид. Много часов ушло на это, однако работа стоила потраченных усилий. Три древних столпа вновь были целы, а значит – величественны. В них скрывалось древнее могущество. Но как они оказались посреди пустого космоса? Раньше этот астероид был частью планеты, но что-то стряслось, и планета исторгла из себя некогда живую часть своей материи. Такие разрушения обязательно коснулись всей жизни. Вероятно, те Ушедшие, что были в видениях черного существа, погибли. Как погибли и их потомки. Неужели эти восстановленные колонны – все, что сохранило о них память?
Черный и зеленый убрались с астероида, и через несколько часов колонны рассыпались вновь. И больше никто их не собрал. Через тысячу лет этот астероид столкнулся с газовым гигантом, и чудовищные ветры разорвали космического странника, и не осталось больше свидетельств о тех Ушедших, что боготворили три колонны. Не осталось и объекта поклонения. Ничего не осталось. Даже гигант-планета со временем погибла.
Но эти два космических существа – зеленое и черное – были уже в новом мире. Мир этот кишел жизнью. Но жизнью дикой, лишенной зачатков цивилизации. Здесь царила природа, а с ней блестящие букашки, говорливые птицы и трусливые звери. И этим мир сей и был ценен. Особенно среди тех Оставшихся, кто или отвергал свою цивилизованность, или стремился на какой-то срок забыть о несносных заботах, вызываемых этой самой цивилизованностью.
Где же порождению найти тут мудрость? Не за мудростью он пришел в этот мир. Какое-то далекое воспоминание вызвало прекрасный пейзаж, который есть только на этой планете. Однако существо в черном плаще не помнило, что хоть раз бывало здесь, в этом мире. Поразительная забывчивость сопровождала порождение с того самого момента, как оно обнаружило само себя на забытом кладбище. Может, черная тень как-то искажает память порождения? Или тень – и есть забывчивость?
Двое поплыли вглубь леса. Могучие кроны высоких деревьев защищали свои корни от света, и легкая полутьма, наравне с отсутствующим ветром, наводила порождение на странные раздумья. Раздумья эти касались заброшенности памяти. Существо под черным плащом многое забыло. Или вовсе не знало. Но это уже маловероятно. Забыть еще возможно, но вот вовсе не знать некоторые вещи, о которых оно стремилось узнать – вот это уже странно. Что за тень постоянно крадется за ним? Навряд ли тень эта – что-то малоизвестное и малопонятное. Для космической сущности вовсе нет малоизвестного и малопонятного, но эта тень… Она действительно неизвестна порождению, но знакома. А такое бывает только при забытье. Насколько много уже забытого? И, самое главное, сколько порождение уже забыло, о чем забыло?
Странник остановился, остановилось и существо под плащом. Перед ними на маленькой опушке сидел огромный дикий зверь. Сидел он спиной, поэтому морду рассмотреть им не удавалось, зато хорошо рассматривалась роскошная темная грива на голове и густая шерсть на передних лапах, которыми животное что-то мастерило перед собой. Удивительно, но зверь этот носил одежду: кожаные ремни опоясывали все его могучее тело, а широкие кожаные штаны висели на подтяжках, немного оголяя шерстистый зад.
На зверя сел крупный гнус. Гнус этот немного поползал по волосатому предплечью, занес свой страшный хоботок для прокола, но лапища быстро прихлопнула кровососущую тварь. Зверь подтянул штаны, поднялся и накинул на плечи рюкзак, а поверх него – здоровенный металлический каркас с нанизанными на него стальными нитями. Будь этот зверь раза в три ниже, порождение и странник приняли б его за жестянщика, но этот громила был выше двух метров – на полторы-две головы он превосходил двухметровую высоту. Великан вдохнул полной грудью и обернулся. Встретился взглядом сначала с черным, потом с зеленым.
– То дерево повалил не я, – заговорил он и ткнул куда-то в чащу. – Я просто на него сел, чтоб перевести дыхание, и оказался чуть-чуть тяжеловат. Вот оно и треснуло. Или вы не лесные духи?
Нет. Так отвечали двое.
– Того травоядного тоже не я убил. Он был, конечно, вкусный, но я нашел его уже подгнившим. Или вы и не духи животных?
Нет. Так отвечали двое.
– Я правда не хотел давить того червя, то есть змею. Хотите спою?
И не дождавшись ответа, громила ловко переместил металлический каркас себе на живот и вдохновенно вдарил по натянутым струнам. Железный вопль разнесся по всему лесу. Не одна птица умерла со страху, не один грызун проделал новый туннель в своей норке, не одно насекомое откинулось мощным порывом ветра. А гигант зычным хриплым голосом запел. В своем славном гимне он воспевал нежный вкус диких зверей. Воспевал он сладкий запах мяса, когда оно жарится на открытом огне. Но главные строки звучали в самом конце. Там артист признавался в своей любви. И не абы к кому, а к целой мясной туше, которую нафаршировали другими тушами и приготовили на вертеле. Воистину, достойный объект любви!
Порождение прониклось сей славной балладой, и спросило у здоровяка, не он ли тот гимнопевец-жестянщик, что заделался паломником?
– Да, это я! – добродушно ответил здоровяк. – Так вы знакомы с моими братьями? Это повод затянуть еще одну песнь!
Но порождение перебило благородный музыкальный порыв и сказало, что его облик несколько отличается от прочих жестянщиков.
– Это все оттого, что я – подлинный гигант мысли, – без стеснения заявил великан. – А гиганта мысли должно быть много, иначе какой из меня гигант мысли? – После этого умозаключения он рассмеялся и продолжил: – Да шучу я. Нет, я гигант мысли, с этим спорить бесполезно. Хотя отец спорил… Сородичи считают меня гигантом мысли, лучшим гимнопевцем, своей гордостью и прочая. Мне лестно это слышать, но сам я так не считаю. Я просто пишу такие гимны, какие хочу написать. Я считаю, если гимну не хватает какой-то изюминки, я ее ищу, а потом встраиваю, а жестянщики потом зовут эту песнь шедевром. Да и тело огромное мое – всего-то случайная мутация. – Здоровяк почесал подбородок и тотчас спросил: – А вы кто такие?
Порождение сказало, что они ищут ответы.
– Достойное занятие. Я тоже ищу ответ. Как сделать мои гимны еще лучше. Да, сородичи и так убеждены, что гимны мои – подлинный образец и лучше уже не будет. Но я знаю, что можно сделать еще лучше! Еще краше! Еще выразительнее! За этим отправился в путешествие – поглядеть на мир, пообщаться с умными Оставшимися, понабраться прекрасного и разномастного, чтоб родить подлинный шедевр. Вы, я гляжу, ребята интересные. Я, пожалуй, буду путешествовать с вами! Думаю, вы сможете завести меня в какие-нибудь непролазные дебри, где на меня свалится вдохновение.
И здоровяк встал между черным и зеленым. Порождению было, по большей части, все равно на болтливого новичка, который тут же начал рассказывать о своих гимнах, напевать отрывки из них, наигрывать небольшие ритурнели и в целом разглагольствовать об искусстве жестянщиков. Но вот странник оказался менее терпелив и почти сразу начал открыто возмущаться великаном. Но тот даже не слышал зеленого. И не слышал он искренне. Ему не было дело до какой-то белиберды, которую ему, как мазь, старательно втирал голосом странник.
– Забыл представиться, – вдруг прервал свои бессвязные и эмоциональные рассказы жестянщик-переросток. – Меня зовут Рапсот. Мне двадцать лет. Гимны научился сочинять раньше, чем подтираться. Не женат. Детей, однако, много. То ли восемь, то ли двенадцать. И это хорошо. Но еще лучше, что я от них в паре световых лет. Ха-ха-ха! А куда мы держим путь? В паб? Бар? Питейную? Ресторан? Гостиницу? Подворье? Мусорную кучу? Я б не отказался сытно поесть. Я – парень здоровый. Я должен хорошо питать свое тело. Иначе как я буду писать гимны?
Порождение отвечало. Сначала они посетят озеро, что находится в сердце этого леса. Там живописно.
– Живописно? Мне это необходимо. Путь долгий?
Несколько суток.
– Вот и замечательно. Всю дорогу я буду петь свои гимны. Я их тыщу штук написал, и все наизусть помню. Мы можем хоть десять дней идти, и я ни разу не повторю свою песнь!
Зеленый странник воспринял это как личное наказание. Он еще не избавился от предубеждения. Он все еще считал, что жестянщики – еретики, сотрясающие основу мироздания своими ужасными музыкальноподобными потугами. Поэтому, когда Рапсот принялся за третий гимн (все гимны он исполнял без передышек, без перерывов), странник уже был не в силах выдерживать подобное надругательство над космосом. Он ругался, бранился, сравнивал гимны жестянщиков со всякой бякой. Он прошелся по всему мировоззрению жестянщиков и назвал его не иначе как «культ шума и рвоты», при этом даже не удосужился объяснить, почему на второе место после шума поставил именно рвоту. Да, жестянщики любили rом, а rом любил делать им приятно, но рвота никак не была одной из основ мировоззрения жестянщиков. Рвота была эдаким неприятным напоминанием, что иногда лучше выпить меньше и повеселиться дольше, чем выпить много, получить мгновенное наслаждение, а потом желудочно страдать. Долго странник лил желчь – успела настать ночь. И только к рассвету поток его брани почти прекратился. Возымела ли она? Конечно же! Конечно же нет! Рапсот исполнил около восьмидесяти гимном. И гимны эти прекрасно заглушали невыразимое недовольство брюзжащего зеленого.
К обеду случилась беда. Видно, музыка жестянщика приелась не только страннику, но и обитателям леса, и перед отрядом выросла звериная армия. Армия эта преграждала путь к заветному озеру. Объединились все звери: хищные и травоядные, жуки и рептилоиды, рыбы и птицы. Все встали на защиту своего леса от шумливого вторженца. Некоторые звери держали в лапах дубины, некоторые – камни. Третьи вооружились своими меньшими собратьями. Иные, как таран, несли на своих плечах огромных страшных рыбов. В желтых, красных, карих, оранжевых, голубых, зеленых глазах горел огонь, белки́ налились кровью. Зубы, клыки, резцы, клювы, хоботы, хоботки, пасти были приоткрыты и пропускали больше воздуха, чем обычно. Хищная слюна текла на землю.
Трое остановились.
– Сколько же тут мяса! – причмокнув, сказанул Рапсот. – А рыбищи какие! Очень вкусные поди! Я хочу отведать эту прелесть!
Звериная армия как будто поняла смысл этих слов. Горластая птица возвестила о начале славной битвы, и многотысячная стая животных помчалась на отряд.
– Вы же поможете мне? – запоздало спросил жестянщик сначала у порождения, потом у странника. Оба отрицательно высказались об идеи помогать. – Если ты, зеленый, поможешь мне превратить эти аппетитные куски в обед, я не буду петь свои гимны. Один день.
Но странник был непреклонен. Он даже не согласился помочь Рапсоту, когда здоровяк предложил не петь гимны всю оставшуюся жизнь. Да, зеленый знал – жестянщик обманет. Жестянщик скорее помрет от нехватки стальной музыки в организме, чем от голода. Поэтому обещания не орать гимны неделю, год, десятилетия или же вечность не могли переубедить зеленого. Существо под черным плащом не помогло по иной причине. И причина эта была воистину достойной. Порождение не считало нужным влезать в дела смертных, если это вмешательство не приведет его к ответам. Рапсот, конечно, забавный, но он вряд ли знает о черной тени.
И битва началась.
С одной стороны стояла бессчетная армия лесных обитателей – жирных, упитанных, так и просящихся на костер. С другой стороны биться вышел могучий гигант. Так он обратился к своему железному металлическому каркасу, что сжимал в ручищах:
– Ну что, мой верный инструмент, мой верный Забойщик легенд, поработаем? Нарубим мяска для моего могучего желудка? Снесем тысячу голов этим вкусным зверям? Разрубим их нежные, вкусные тушки надвое? Выпустим их потроха, которые пустим на колбасы? Нашинкуем их тела на кубики, чтоб завернуть в лепешку? Нарежем их тела тонкими слоями, как режут ветчину? Срежем ли сало с их мяса, на котором пожарим котлеты? И котлеты мы сделаем из фарша, на который пустим их нежное, пускай и жесткое мясо. Всех перебьем, верно, тяжелый Забойщик? Верно! Так и сделаем! В бой, мой славный Забойщик легенд, в бой!
Забойщик легенд, до того безобидный и звонкий, теперь являл собою мощь забытых железных богов. Это грозное оружие было подобно и молоту, и топору, и мечу, и булаве. Из широченной груди Рапсота вырвался небывалый крик, и животный авангард повернул назад в страхе перед этим ужасным ревом. Бежавшие топтали своих соратников, разбрасывали в ужасе оружие, чтобы быстрее убежать, но тут же спотыкались и падали. Но особо резвые скакуны и ловкие прыгуны, а также стремительные бегуны уже приблизились к гимнопевцу. Началась рукопашная схватка. Здоровяк, казавшийся неуклюжим, оказался гибким и резвым соперником. А также очень метким. Ни одно попадание не пришлось по нему, только стальное оружие встречалось с вражескими выпадами. Все бы ничего, но великана успели окружить. Но никто так и не попал по огромной мишени. Рапсот же наступать не спешил. Видимо, Рапсот разминался. А размявшись, он перешел в наступление. Каждый удар тяжелой железкой в лепешку разламывал головы недругов и вгонял их в землю по эту самую голову. Крупные звери вбивались по пояс. Звери, потерявшие лапы, бились на земле, верещали, стонали. Они истекали кровью, они прикусывали лапы, лишь бы замедлить кровотечение. Они, умирая, ползали по листьям и траве, не в силах подняться – им выпустили кишки, им сломали ребра, им перебили позвоночник. Зверям-врагам на помощь пришла авиация: огромные хищные птицы несли в когтях дерьмо своих испугавшихся жертв. Когти разжались. Дерьмо полетело к гимнопевецу. Тот схватил одну ушастую тварь и принялся животное раскручивать. Ветер, что образовался от раскручиваемой тушки, сдул и дерьмо, и хищных птиц. Многие из них насмерть расшиблись о деревья или нанизались на ветки. Крыльями они пытались снять себя с острых кольев. Они пытались сорваться с вертела, но быстро погибали. Они погибали в муках. Они жутко, протяжно гоготали. Боль от пронзенных потрохов, от проткнутого мяса и костей была невыносима. Птицы хотели спастись, но не могли. Так и погибали они, с пронзенными кишками, бессильно свисая с острых веток. Однако же нападение с воздуха не могло остановиться так легко! В бой пошла мошкара и комарье. Целый рой, целая туча этих мелких надоедливых тварей угрожающе поползла к Рапсоту, но тот не боялся мошкары. Он знал, что победит. Однако откуда была такая уверенность? Все дело в поте. Сражающийся гимнопевец успел вспотеть. В малых концентрациях пот привлекает кровососущих тварей, но в чрезмерных количествах вонь убивает этих кровососов. А Рапсот сейчас вонял знатно. В лесу было жарко и душно, он не мылся почти неделю. Гигант стянул с себя одежды, и ослепительной красоты тело, мускулистое и черное от густых волос, предстало перед всеми лесными обитателями. Некоторые испугались таких каменных округлостей. Но куча кровососов, напротив, захотели как можно скорее присосаться к этой красоте и обескровить ее. Что может быть прекрасней крови? И черная роящаяся туча тотчас подлетела к здоровяку. Однако не одно насекомое не уселось на него своими мерзопакостными лапками. Эти твари сгорали еще на подлете – так мощно разило от могучего пиита. И тут окружение прорвали звери-безумцы, что несли на себе огромных рыбов. Рыбы страшные сии успели стухнуть под солнечными лучами. Дружный залп из перегнивших жабр и загазованных потрошков был направлен прямо на жестянщика. Но тот сделал шаг в сторону, и зловонный душ обрушился на других зверей. Едкий яд и жгучий запах растворили мясо несчастных. Подняв жуткий крик, желейная субстанция сползла вниз, где образовала лужу. А после в эту лужу рухнул и голый розоватый скелет. Звери испугались собственной жестокости. Рапсот же воспользовался заминкой, выхватил одну такую опасную рыбищу и обдал зверей, что посмели его окружить, страшной смесью. Все, что было вокруг него, превратилось в ужасное плотяное (от слова «плоть») месиво. Больше звери не использовали этих ужасающих рыбов как оружие. Вдруг под Рапсотом разверзлась земля, и он провалился по плечи в образовавшуюся яму. Сотни маленьких пастей вцепились в его прекрасное тело, и он взвыл от боли. Широкими размахами он разбросал землю и увидел, что в него вцепилась сотня подземных обитателей. Там были и маленькие зверьки с острыми зубами, и червяки, и какие-то гадкие личинки. Гимнопевец, как истинный титан, не стал терпеть этих животных, напряг мышцы живота и подпустил смрадных ветров точно в норки тварей. Хлопок, изошедший из твердого зада, был такой, что затряслась земля, а мелких тварей выдуло из домиков, словно из пушек, мощными порывами ветра. Звери, нанюхавшиеся газов, падали замертво и мучились в страшных припадках. Глаз их покраснели, налились слезами. Легкие их были обожжены. Они хрипели, пускали розовые пузыри. Судорога и удушье содрогли их маленькие тушки. Первая волна атаки захлебнулась, пошла вторая. На великана двинулась целая тьма пушных зверей. Они вооружились цветочными шипами, лианами, ядовитыми змеями, взрывающимися грибами и невесть чем еще. Одно животное сжимало в лапках даже деревянный годмише ручной работы. А особо изощренный вооружился кожистым клистиром, в котором булькала серная кислота из подземного источника. Великан что есть силы лупанул по ближайшему дереву, и срубил его. Взяв этот огромный ствол, он принялся размахивать им, как дубиной. Дубина эта весила, как скала, и великие мускулы гиганта набухли от чудовищных усилий. Вены на шее были готовы вырваться из-под кожи, так велика была нагрузка, но Рапсот будто ее и не замечал. Он ловко размахивал деревом то в одну, то в другую сторону. И с каждым взмахом сотни зверей разлеталась, будто придорожная пыль. Но зверей меньше не становилось. Напротив, будто все твари лесные прибывали и прибывали на великую битву. Им несть числа. Как бы гигант ни разбивал головы, хребты, а то и целиковые туловища, звери без страха шли и шли на него. Но, сколько бы животных ни шло, ни одно из них не смогло приблизиться к гимнопевецу. Вдруг живой поток прекратился. Звери почтительно расступились, и меж их рядов пошло настоящее чудище. Громадина, головой оно доставало до крон деревьев. Короткие ноги его ступали бесшумно и мягко, но угрожающе. Длинными руками волочились по земле. Этот монстр приближался к Рапсоту. Солнце скрылось за облаками, и дневной свет, тусклый от древесных крон, сменился темными сумерками. И в этих сумерках шкура чудовища засияла золотом, а глаза – кровью. Жестянщик направил огромное дерево точно в череп монстра, но два ловких пальца перехватили эту ужасающую дубину и без труда вырвали ее из рук Рапсота. Длиннющая рука чудовища прихлопнула гимнопевеца, и зеленый странник испытал удовлетворение. Однако оно быстро сменилось разочарованием. Рапсот выжил и поднял над головой огромную лапу, что придавила его.
И чудовище взвыло – лапу насквозь пронзила сталь. Кровавый водопад облил жестянщика с ног до головы. Монстр отдернул руку. Не смог – Забойщик легенд накрепко засел в руке. Однако ненадолго. Крутым движением тела Рапсот разрезал лапу надвое. Затем отрубил. Чудовище взревело и отшатнулось. Схватило огромного сочного питона и, как жгутом, перевязало фонтанирующий обрубок. Кровь залила деревья, кровь залила землю.
К первому питону неведомый монстр привязал второго, еще длиннее и сочнее, а к нему жирную шарообразную зверюгу с лысым телом. Зверюга эта весила тонну, не меньше.
И монстр бросился в бой. Живой цеп, которым он раскручивал над головой, посшибал все кроны дерев, и размозжил все ребра незадачливого снаряда. И тут грянул гулкий гром – так оземь ударился сей ужасный цеп. Снаряд-зверюга издал гиблый хлюп и издох, а Рапсот отскочил. Вновь цеп взвился к небесам, вновь приземлился и… Промах. Жестянщик спасся снова. Эта глупая забава начала надоедать чудовищу, и он поднял цеп в третий раз. Снаряд уже мало походил на зверя, скорее на кровоточащий мешок, вперемешку набитый кишками, ломаными костями, мясом и жиром. Со свистом дохлая зверюга устремилась вниз. Наконец юркая цель была поражена. Чудовище гордо затрясло здоровой рукой, начало бить в себя в грудь. Начался праздник, звери зашлись в плясе.
Следом произошло страшное. Зверюга распалась на две части, и из утробы показался Рапсот. Весь в крови. С него свисали куски звериного ливера. Он стоял, гордо. Светлые глаза смотрели прямо на чудище. В самые глаза чудища. И чудище испугалось. Звери же завизжали и бросились врассыпную. Ошеломленный монстр так и не понял, как жестянщик стремглав забрался по змеям и вонзил сталь в огромную черепушку. Кость была невероятно крепка, и Рапсот надавил на свое грозное оружие всем телом. Лоб трещал, но выдерживал такое давление. Тогда могучий воитель разразил всю округу великой победоносной песней. Звуковые волны, исходящие из его груди, протолкнули топор достаточно, чтобы пробить череп твари насквозь. Чудовище ухнуло, обгадилось и упало. Гимнопецей спрыгнул с валящейся твари. Тяжелое падение лесного монстра вызвало легкое землетрясение, но Рапсот устоял. Он приблизился к монстру, отодвинул его и извлек из-под останков спутника, музыкального и боевого, но главное – верного.
Затем он принялся разделывать огромную тушу и напевать песнь, что всегда поют при разделке мяса, но такого мяса, которое неминуемо принадлежит чудовищам. Потому что песнь, которую необходимо петь при разделке не-чудищ, отличается от этой песни и лирикой, и музыкой.
– Любопытно, а этот жердяй вообще вкусный? – спросил у самого себя Рапсот, когда похлебка из ребрышек была сварена. Он отлил себе бульона, наловил из котла плавающих овощей и, без сомнения, водрузил в тарелку царский кусок мяса на кости. Приголубил бульон, пожевал овощи, откусил кусок мяса. Проглотил. Сказал: – Дерьмо. Зря только готовил.
И все трое, посреди ночи, двинулись дальше.
До озера оставалось идти менее дня. И весь путь Рапсот не замолкал. Сейчас он, например, говорил порождению такое:
– Если посмотреть непредвзято и честно, что есть искусство? Деятельность смертных, которая своей целью ставит передачу мыслей, чувств и идей? Я скажу, что такое определение бред, и вот почему. Искусство всегда до предела эгоистично. Творец в первую очередь создает искусство ради себя и для себя. Даже если цель – заработать, то этот заработок пойдет, чтобы сделать приятно творцу. А как же тот благодушый простак, кто потребляет искусство? Он тоже делает это не ради творца, а ради себя, чтобы доставить определенного рода удовольствие, и не кому-то, а непременно себе. Моя мысль может показаться кощунственной, но я разовью ее. И начну с того определения искусства, которое дал выше. С одной стороны, определение это, конечно, верно. А именно верно оно со стороны формы. Действительно, внешне искусство есть определенная информация, которая доносит какое-то авторское понимание по какому-то поводу. Но форма далека от содержания, а содержание искусства глубоко эгоистично. И сейчас я буду это доказывать. Уж простите меня, космические сущности, в этом лесу я пробыл почти три месяца, и все это время не разговаривал ни с одной живой душой. Мне надо выговориться.



