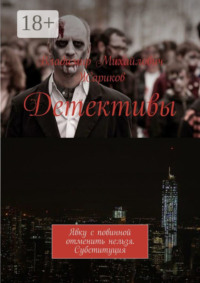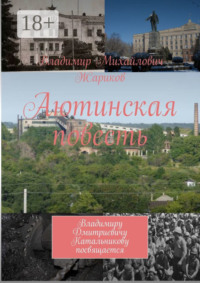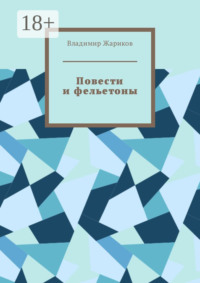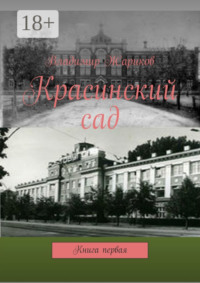Полная версия
Красинский сад. Книга вторая
– Да, я! – отвечал тот, – кто должен еженедельно опускаться в шахту и осматривать все забои? Главный инженер! А почему он не делал этого?
– Да потому что до смертельного случая, кровля была везде исключительно прочной, – отвечали ему.
– Нет, он не делал этого, потому что был замаскированным врагом, – настаивал Пискунов, – и если бы не смерть Потапова, то еще долго бы пришлось разоблачать этого вредителя….
– Ты сукин сын форменный! – вмешался в разговор Михаил, – ты же отомстить ему хотел за то, что тебя заставили «догрызать» лаву с нарушениями….
– Это ты от зависти так говоришь, – ухмылялся Пискунов, – не можешь обойти меня по выработке, вот и злишься! …Арестован Аким, ну, и хрен с ним, чего вы так переживаете? Другого пришлют, без главного инженера не останемся….
– Да ты падла настоящая, – возмущался Михаил, – Желтобрюх был хорошим мужиком, не тебе ровней! За что его так? Кому он навредил? Тебе? Но ты же не весь народ и даже мужики, которых твой десятник Митроха заставил подписать донос, ненавидят тебя…. Да, это его упущение, что он не контролировал, как главный инженер, состояние вмещающих пород и особенно кровли. А ты лично все делаешь, как предписано правилами безопасности? Хрена лысого, иначе бы не было у тебя большой выработки на смену….
Перепалка вскоре закончилась, но было очевидно, что кроме Михаила заступиться за Желтобрюхова открыто побоялись, кто знает, на кого еще может написать донос этот кавалер-орденоносец? В шахтерской общественности с недавнего времени появился страх. Складывалась ситуация, что если нацепить орден, то можно кого угодно упечь в застенки НКВД, поверят ордену, а не человеку. А если выступить в защиту арестованного «врага народа», то можно стать его «пособником» и составить компанию в каком-нибудь лагере для политзаключенных.
На второй день похорон состоялись поминки. Столы установили в зале клуба, убрав из него скамейки для зрителей. Повара горного буфета наливали всем пришедшим борщ, на второе порцию котлет с гарниром, затем компот, булочку, ну и, конечно же, сто грамм водки. Все расходы были оплачены шахткомом, поэтому никто не контролировал их. Многие любители спиртного по третьему разу садились за стол, чтобы выпить еще сто грамм, больше на одного поминающего не наливали.
Но кто удержит ненасытную утробу любителя выпить? Шахтеры выходили с поминок, складывались, посылали гонца в магазин и уже сидя на зеленевшей лужайке недалеко от клуба, продолжали поминки. О погибшем Потапове говорили только хорошее, а Пискунов уверял, что был ему лучшим другом. Горняки его бригады знали, что тот врет, он часто ругался с Потаповым и ненавидел его за откровенность, когда тот в глаза высказывал передовику, что Пискунов заносчив и слишком любит себя. Михаил, который очень редко участвовал в коллективных пьянках, тоже подошел к общему кругу, Гриня уговорил его помянуть «погибшего как следует» По легенде о Прохоре, который валит лавы, это было необходимо, иначе призрак может заявиться снова и жди очередной смерти.
– Я с падлой пить не буду! – громко заявил Михаил, увидев в общем кругу Пискунова, – с падлой пить – падлой быть! Пусть с ним зебра полосатая пьет….
– Да на хрен он тебе нужен? – успокаивал его Гриня, – ты близко к нему не садись и не заразишься….
Мужики дружно гоготнули, но тут же прекратили смех, с опаской поглядывая на Пискунова. Тот уже хорошо выпил, и как бывало в подобных случаях, не знал меры в бахвальстве и самолюбовании. Пискунов важно насупившись, не отреагировал на подколку Михаила. Мало кто из шахтеров знал, что такое зебра, Михаил вычитал о полосатой лошадке в книге о животных.
– А кто это зебра? – раздался из круга вопрос.
– Это лошадь такая полосатая, в Африке живет, – охотно отвечал Михаил, – …конь в полоску и держит попой папироску!
На этот раз громыхнул дружный хохот, что окончательно вывело Пискунова из равновесия. Он поднялся и подошел к еще стоявшему Михаилу, Гриня в этот момент уже сел на корточки и ему наливали в стакан водки.
– Ты хочешь, чтобы тебе кавалер ордена Трудового Красного Знамени в рыло заехал? – заносчиво спросил Пискунов у Михаила.
– Будьте так добры, – ехидно отвечал Михаил, – товарищ орденопросец!
Пискунов успел только замахнуться, Михаил не стал ждать, пока тот нанесет первым удар, он, сгруппировавшись, врезал Пискунову снизу в челюсть. Тот, споткнувшись о сидящего на корточках Гриню, завалился на полянку, где стояли бутылки с водкой и разложена закуска. Падая Пискунов, рассек себе бровь о бутылку водки и к его носу прилип кусок колбасы, кем-то мелко порезанной. Поднявшись и топча закуску ногами, он выглядел смешно и нелепо. Шахтеры дружно хохотали с орденопросца, как его в шутку назвал Михаил, а он покинул компанию с угрозой: «Вы сейчас все у меня попляшете!».
Поминки на поляне продолжились, а спустя час к шахтерам подъехал «черный воронок» НКВД. Оказалось, что Пискунов ушел из компании на шахту, откуда позвонил начальнику НКВД и тот прислал наряд к клубу. Когда милиционеры представились и задали вопрос, кто избил орденоносца, то все дружно, предварительно не сговариваясь, показали, что Пискунов сам упал «мордой на бутылку» и поранился. Старший наряда составил протокол, а в нем по требованию Михаила, который был трезв, записал, что этот орденоносец злоупотребляет спиртным и верить ему нельзя. Милиционеры, поблагодарив шахтеров за дачу показаний, уехали.
А через несколько дней Андропа пригласил в кабинет Михаила и поблагодарил его за свое спасение. Он рассказал, что Пискунов написал еще одно заявление в НКВД, но уже на него, заведующего шахтой. И если бы не протокол, составленный милиционером, выезжавшим к клубу во время поминок, то Андропу могли бы арестовать на днях. Этот документ, где записали коллективные показания с поправкой Михаила, что Пискунов злоупотребляет спиртным и верить его словам нельзя, повлиял на решение начальника НКВД. У него сложилось отрицательное мнение о Пискунове, а таким людям лучше не потакать!
Михаил был уверен, что арест Желтобрюхова являлся ошибкой и злоупотреблением властью на местах. Товарищ Сталин не мог всего знать, как в случае сплошной коллективизации. Вспомнилась статья Иосифа Виссарионовича «Головокружение от успехов» в «Правде» в 1930 году, где вождь трудового народа называл это, как «перегибы на местах», которые объявлялись плодом самодеятельности излишне ретивых исполнителей, трактовавших таким образом «генеральную линию партии». Михаил предложил Андропе написать Иосифу Виссарионовичу, но тот почему-то категорически отказался, заявив, что «это меня не касается»
Михаилу показалось, что заведующий чего-то ему не договаривает и знает больше, чем он. Но чудовищной мысли, что аресты «врагов» являлись компанией по приказу из Москвы, не возникало. Не мог товарищ Сталин отдать приказ арестовывать не виновных! Не стыковалось это со смыслом огромного плаката, совсем недавно повешенного в помещении общей нарядной. На нем был запечатлен вождь и учитель всех времен и народов, склоненный над документом с ручкой в руке под светом настольной лампы. Под этой фотографией была надпись: «О каждом из нас заботиться Сталин в Кремле». Летом в Красинском саду вместо бюста Карлу Марксу, расположенному по другую сторону центральной аллеи от бюста Ленину, появилась скульптура Сталина. Теперь там красовались статуи обоих вождей мирового пролетариата – Ленина и Сталина.
…Марфуша и Катя одновременно пошли в декретный отпуск и теперь обе сидели дома. Они часто приходили одна к другой, когда мужья были на работе и болтали о предстоящих родах. Обе боялись их и, наверное, впервые это бывает очень страшно. Но так распорядилась природа человека, рожать должна женщина и с этим нужно мириться, настраиваясь на рождение ребенка. Михаил даже кухарить стал, лишь бы не загружать Марфушу домашними делами, по выходным мыл пол в доме и убирался во дворе. Гриня подражая ему, тоже берег свою Катю от хлопот и в шутку земляки называли себя шахтерами-домохозяйками.
Акушерско-гинекологический корпус (отделение – прим авт.) больницы им. Ленина был построен еще в 1927 году. Изначально планировалось строительство девяти корпусов – поликлиники, хирургического, акушерско-гинекологического, терапевтического, венерологического, психиатрического и трех заразных (инфекционных – прим авт). Но в 1927 году было сдано только два, акушерско-гинекологический корпус был возведен, но без отделки. Его окончательно завершили в следующее лето.
После сдачи двух корпусов заведующий окружным здравотделом товарищ Я. Пржикрыл выступил в газете «Красный шахтер». Он заявил, что «Медико-санитарная помощь в дореволюционные годы была самая примитивная. Оно и понятно. Предприниматель не был заинтересован в сохранении живой силы. Выкидывал на улицу больных и заменял их новыми из армии безработных. Но теперь строящаяся больница будет действительным центром высококвалифицированной медицинской помощи не только для шахтеров, рабочих, крестьян и казачества округа, но и для женщин, рожающих нам поколение смены. Поэтому мы определили строительство акушерско-гинекологического корпуса в числе первых». Это отделение оказывало родовспоможение и именно там предстояло рожать Марфуше и Кате.
А пока они являлись на прием к врачу, одолев каждый раз путь до остановки трамвая «1-е пересечение» и обратно. Ходили по железной дороге от шахты и когда уставшие, тяжело дыша, попадали в вагон трамвая, то молодые люди вскакивали с мест, уступая их беременным женщинам. Если в вагоне были пионеры, то те еще и отдавали им салют, как их учили в школе. Доехав до проспекта Карла Маркса, женщины шли в поликлинику, а после приема обратно. Врач у обеих был один и тот же, он и назначил время, когда молодые роженицы должны ложиться в отделение на роды. По просьбе Марфуши этот день был определен для обеих один.
Когда подошло время, ложиться в отделение, их положили в одну палату и Михаил с Гриней вместе приходили проведать своих жен. Покупали им первые огурцы, фрукты и ягоды, которых в это время было уже много на городском рынке. Передавали кур, сваренных дома для рожениц и ждали, ждали, ждали…. Врачи не разрешали контактировать лично, поэтому общались через окно палаты, благо, что оно находилось на первом этаже. Через двойную раму не было слышно, о чем говорят женщины, и приходилось додумывать за них, но зато мужики орали во всю мощь и жены слышали их прекрасно. Тетка Махора тоже иногда приходила к окну палаты вместе с мужиками и даже передавала записки с советами, что женщине нужно сделать сразу после родов.
Первой родила Катя, девочку и Гриня был счастлив до умопомрачения, хотя и ждал сына. Михаил назвал земляка «бракоделом», а тот, улыбаясь во весь рот, парировал шутку словами «подождем, кого родит твоя Марфуша». Дочь «обмывали» вечером на квартире у тетки Махоры и Гриня напился от радости «до чертиков». На следующий день Марфуша родила сына и вечером уже «обмывали» Лёню, так назвала сына задолго до родов Марфуша. Михаил в этот вечер тоже хорошо выпил, но не водки, как его земляк, а домашнего вина, бутыль которого щедро преподнесла тетка Махора. Новоиспеченный папа показал гостям люльку, приготовленную для новорожденного. Это была колыбелька из красивых резных планок, подвешенная к потолку на веревках. Ребенка можно было укачивать, сидя на табурете рядом с ней.
Забирали домой жен с детьми в один день и чтобы не ехать в переполненном вагоне трамвая, шли пешком через Поповку да самого дома. Михаил нес на руках первенца сына, а Гриня дочь. Женщины шли рядом, то и дело, поправляя одеяльца малышей, и щупали сухость пеленок. Мужчины шли молча, а женщины перебрасывались фразами о том, кто и как выдержал первые роды. Михаил нес сына, и ему еще не верилось, что у него в руках маленький человечек, новая жизнь, которую дал он. Внезапно появилось отеческое чувство к этому комочку жизни, трепетное и нежное, дающее неземное ощущение и понимание – ты отец! Вместе с этим рождалось и другое чувство – ответственность за судьбу ребенка и готовность отдать свою жизнь, ради него. Мужчины долго шли молча, прежде чем Гриня заговорил первым.
– Теперь крестины будем отмечать вместе, – заявил он, – давайте и кумовьями будем?
– Мы согласны! – в три голоса поддержали его идею Михаил, Марфуша и Катя.
– Но крестить детей не будем, – продолжил Михаил, – иначе на работе засмеют….
– Нет, Мишенька, Лёню надо окрестить! – категорически заявила Марфуша, – ну и что, если посмеются? Бог он все равно есть, чтобы не говорили сегодня…. Я верю, что Всевышний сейчас слышит наш разговор.
Гриня с Катей промолчали по этому поводу, Михаил не стал возражать, он относился к религии, как большевики, считая себя атеистом, и сам иногда смеялся с верующих. Он прочитал несколько книг Циолковского и понимал, о чем писал ученый, поэтому представить, что Бог сидит на небесах не мог, это смешило его. Марфуша верила в Бога, только в церковь не ходила, как многие старушки, живущие на их улице. Но споров с мужем не вела, считая это богохульством и бесполезностью. Не верит муж – это его выбор!
…Начались дни семейных забот об уходе за новорождённым Леней, и Михаил старался во всем помогать жене. Он не гнушался стиркой пеленок, приготовлением пищи выполнял все, о чем попросит Марфуша. Мальчик оказался на удивление спокойным, и молодая мама души не чаяла в первенце. Она часами любовалась им, когда малыш накормленный грудью засыпал на руках. Часто ходила к Кате, когда Михаил был на работе или та приходила к Марфуше. В отличие от Лёни, маленькая Света, так назвали девочку родители, была капризулей и громко плакала, если ее пеленка становилась мокрой.
Вместо Желтобрюхова на шахту прислали нового главного инженера Калистратова. Это был небольшого роста мужчина с лысеющей головой, лет сорока возрастом. До этого он работал на шахте «Пролетарская диктатура» десятником проходчиков. В 1932 году по «призывному набору ВКП (б)» поступил на вечернее отделение Шахтинского горного техникума и окончил его с отличием. Здание этого учебного заведения построили по улице Шевченко напротив поликлиники окружной больницы имени Ленина.
В 1929-м при Донском политехническом институте распоряжением Наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе были введены курсы, рассчитанные на обучение 120 человек за три месяца. Горный техникум начинал свою работу на базе этих курсов, но в конце 1930 года в связи с отсутствием учебной и удаленностью производственной базы был переведен в город Шахты. В 1931 году, обладая собственной материальной базой, был открыт уже в статусе средне-технического учебного заведения.
Калистратов был мужиком напористым и требовательным, даже имея многолетний опыт работы, ему трудно было противостоять в споре, он имел хорошую школу рядового проходчика. На первом же наряде с участием Калистратова, это поняли все, и его авторитет был признан без сомнений. А вот когда он, заведующий Андропа и парторг Цыплаков, в начале сентября торжественно проинформировали горняков шахты о фантастическом рекорде забойщика Алексея Стаханова, подняли на смех.
– Я чего-то не понял или ослышался? – съехидничал Пискунов, – этот запойщик Алеша Стаканов добыл за смену 104 тонны, перевыполнив норму выработки в 14 раз? …С похмелья, что ли?
– Ослышался! Во-первых, не Стаканов, а Стаханов, – отвечал Калистратов, перекрикивая дружный смех, – и не запойщик, а забойщик, от слова «забой», а вот понял ты или нет, определяется твоими умственными способностями.
– Так ведь забойщик не отбойщик, – продолжал иронизировать Пискунов, – он не отбивает уголь, как мы, а забивает! Мы тоже можем забить на все это дело… 14 раз!
– А почему у него норма выработки семь с половиной тонн? – задал вопрос Михаил, разделив в уме 104 на 14, – у нас давно такая была еще до внедрения врубовых машин. Сейчас у нас тринадцать тонн, а у запойного Алеши – семь с половиной….
– Я так понимаю, что выступают лучшие навалоотбойщики шахты, – констатировал Калистратов, – тогда скажу, что я не знаю, почему на шахте «Центральная-Ирмино» такие нормы выработки. Это зависит от многих факторов – мощности плата, его крепости, обводненности, угла падения….
– Нам рассказывать все это не надо, – аргументировал Михаил, – я так понимаю, что если на шахте «Центральная-Ирмино» такая норма, то там нет врубовых машин, а это значит, что крепость пласта низкая. Там ведь не антрацит добывают, а коксующийся уголь, поэтому сравнивать наш пласт с их не стоит…. Я однажды, когда мне нужно было выехать из шахты раньше времени, напрягся изо всех сил и за три часа сделал норму. Выходит, что за смену я мог бы сделать две, но не больше…. А он четырнадцать норм дал, такого не может быть!
– Ты сам себе противоречишь, – вступил в спор Цыплаков, – говоришь, что на шахте Стаханова нет врубовых машин, а значит там труднее, чем у нас!
– Я это сказал потому, что врубовки там вообще не нужны, – парировал Михаил, – их применение на мягких пластах не дает выигрыша в производительности. Такие пласты можно без вруба отбивать с легкостью.
– А почему профессия у этого Стаканова называется забойщик? – поддержал Михаила Пискунов, – а не навалоотбойщик, как у нас?
– Какая разница? – возмутился Цыплаков, – как не называй, а факт перевыполнения нормы в 14 раз официально зафиксирован….
– Большая разница, – кричал кто-то из угла нарядной, – один бабу любит, а другой только дразниться…. Вот и вся разница!
– Товарищ Цыплаков, разница в том, – аргументировал Пискунов, – что забойщик только отбивает, а навалкой угля на рештаки занимается еще один человек, которого называют выгрузчиком лавы. Но не в названии дело, ведь, говоря по-ихнему, мы получается забойщики-выгрузчики, выполняем работу за двух.
– Достаточно споров! – подвел итог Цыплаков, – есть рекорд и мы должны его поддержать, а если сможем, то и повторить….
Вопросов было больше, чем ответов. Спор прекратили и приняли резолюцию о поддержке стахановского движения, в котором обещали повторить трудовой подвиг Алексея Стаханова. Но споры продолжились на рабочих местах. Шахтеры не верили, что один человек за смену может произвести отбойку пласта даже без навалки-выгрузки в 14 раз, превышающий норму. Михаил убеждал десятника Павла: если на их участке норма добычи в тринадцать тонн выполняется при отбойке девяти метров забоя, то получается за смену нужно отбить 126 метров. Это две лавы длиной по 60 м. Пройти такое расстояние на отрабатываемом пласте отбойным молотком невозможно, даже если за тобой следом будет идти навальщик-выгрузчик и крепильщик.
По подсчетам Михаила на пласте шахты Красина за смену можно пройти максимум 36 метров, не осуществляя навалку угля. А это четыре нормы, не более! Позже на шахте провели такую показуху, в которой подтвердился этот подсчет. Устроили соревнование между Пискуновым и Михаилом. Они вели отбойку, а за каждым следом шли два человека, один наваливал отбитый уголь на рештаки, а второй крепил лаву. Пискунов прошел 40 метров, Михаил 38. Обоих можно было на руках выносить из лавы, от усталости и перенапряжения ноги и руки сводило судорогой. На этом показуха закончилась и все вернулось на круги своя. Добыча, конечно, увеличилась, но выполнять постоянно по две нормы было не по силам и Михаил, и Пискунов не могли «прыгнуть выше своих физических возможностей».
А вскоре в городской газете «Красный шахтер» появились торжественные рапорта о том, что горняки города с энтузиазмом поддержали инициативу богатыря угольного фронта Стаханова. Первый рекорд в городе родился на шахте №1 имени Артема, где забой отбивали буровзрывным способом. Выгрузчик лавы товарищ Демичев за смену перевыполнил свою норму в 7 раз, такой же выработки достиг и выгрузчик лавы Погребной на шахте имени газеты «Комсомольская правда». По 4—7 норм за смену стали выполнять многие горняки шахт «10 лет «ЗИ», им. Красина, им. Петровского и других.
Стахановское движение было подхвачено в городе рабочими других предприятий: хлебозавода, мясокомбината, деревообрабатывающей фабрики, известкового, шлако-диатомового и кирпичного заводов. Рабочие этих предприятий взяли обязательство ежедневно выполнять по две нормы, а рабочие электромеханических, кузнечно-слесарных, и авторемонтной мастерской треста «Шахтантрацит», по три. Особенно порадовали шахтинцев строители – к годовщине Великого Октября они досрочно пообещали сдать в эксплуатацию трамвайную линию от остановки «1-е пересечение» до шахты Октябрьской Революции.
После проведенного соревнования Михаила и Пискунова в октябре направили на Первый слет стахановцев треста «Шахтантрацит», где им присвоили звание «Мастер угля» и выдали премию по пятьсот рублей. А в ноябре Пискунова одного командировали в Москву, где с 14-го по 17-е состоялось Первое Всесоюзное совещание стахановцев в Кремле, которое подчеркнуло важную роль движения в социалистическом строительстве. На этом же совещании прозвучала ставшая впоследствии крылатой фраза Иосифа Виссарионовича: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится».
– А почему меня не направили вместе с Пискуновым? – спросил Михаил у Андропы, – на слет ездили вместе, а в Москву он один! Я никогда не был в столице и хотя бы одним глазком посмотреть на Кремль….
– Пискунов коммунист, – подчеркнул присутствующий при разговоре Цыплаков, – а ты бес!
– Если я бес, – огрызнулся Михаил, – то ты цыпленок желторотый! Пищать научился и щелкаешь здесь клювиком своим, вместо того, чтобы личным примером поддержать стахановское движение…. Чему учит вас товарищ Сталин? Партийный вожак должен быть впереди и своим примером вести агитацию! А ты? Может, спустишься в лаву и обойдёшь Стаханова, в 15 раз перевыполнишь норму?
– Не обижайся, Таликов, – успокаивал Михаила Андропа, – бесом называют беспартийных, всего лишь….
Спокойная реакция парторга на словесный выпад Михаила не удивила, после ареста Желтобрюхова по доносу Пискунова, начальство на шахте стало побаиваться коллективных жалоб, и Цыплаков был не исключением. Раньше парторг наорал бы на Михаила, а за то, что тот обозвал его желторотым цыпленком, угрожал бы лишением премиальных.
– Да мне и не очень-то нужно было ехать в вашу Москву, – спохватился Михаил, – у меня ведь дома сынок Лёник и нужно жене Марфуше помогать, как её оставить на две недели одну? Это я не подумавши спросил….
Мысль о том, что дома его ждет грудной сын, и любимая жена Марфуша никогда не покидала Михаила и, вспоминая об этом, у него на душе становилось тепло и спокойно. Главное для Михаила была его семья, домашний очаг и любовь женщины, которая казалась ему неземным созданием.
***
Вернувшись из отпуска в Ростов, Сергей заехал на квартиру к командарму Кулешову, как тот приказывал ему перед отпуском. Наступил поздний вечер, и Петр Григорьевич был уже дома. На звонок в квартиру, дверь открыла горничная Алена и с улыбкой пропустила парня в прихожую. Сергей удивился, что Алена задержалась в этот вечер допоздна в квартире командарма. Обычно она старалась уйти пораньше, потому что жила далеко от центра города.
– Проходи Сережа, – услужливо произнесла Алена, – тебя уже ждут.
– Чего бы это вдруг? – подумал Сергей, – обычно Алена уходит раньше девяти часов, а сегодня здесь еще.
Сергей разулся в прихожей и прошел в гостиную. На диване сидел Петр Григорьевич и читал газету «Правда», увидев прибывшего Сергея, он отложил ее в сторону и поднялся во весь рост.
– Красноармеец Дементьев из отпуска вернулся! – доложил вытянувшийся в струнку Сергей.
– Вольно! – шутливо скомандовал Кулешов и, обращаясь к горничной, крикнул, – Алена, подавай ужин!
– Здравствуйте Сережа! – приветствовала парня вошедшая в гостиную супруга командарма Елизавета Петровна.
– Мы сегодня еще не ужинали, – сказал Кулешов, – ждем тебя! Молодец, что вернулся к 22—00, как я тебе и приказывал. Это радует, из тебя получился исполнительный вояка….
Далее, как обычно последовал ужин и дежурные вопросы Петра Григорьевича и его жены – здорова ли мама, как поживают родственники? После первой выпитой рюмки коньяка, Елизавета Петровна, как по команде удалилась к себе. Сергей обратил внимание, что Алена не спешила домой, как раньше. Обычно она убирала со стола остатки ужина на следующее утро, а сегодня спокойно ждала на кухне его окончания. Кулешов, заметив удивление на лице Сергея, объяснил, что горничная теперь живет у них и ночует в одной из гостевых спален. Ее переезд к Кулешовым на постоянное место жительства был продиктован безопасностью Алены. Однажды возвращаясь к себе, домой поздно ночью на нее напали бандиты, вооруженные ножами и ограбили женщину.
Денег горничная с собой не носила, поэтому забрали новое демисезонное пальто, сумочку и дорогие сережки. В Ростове такие грабежи происходят повседневно, не случайно в воровском мире город называют «Ростов-папа». Сергей рассказал командарму о смешном случае, произошедшем в трамвае, когда он ехал от железнодорожного вокзала в поселок Октябрьской революции. Кулешов долго смеялся и предложил выпить еще по одной. Затем вылез из-за стола, достал из секретера какие-то бумаги и демонстративно положил их перед Сергеем.