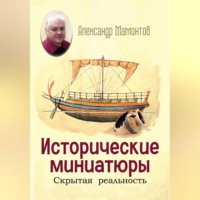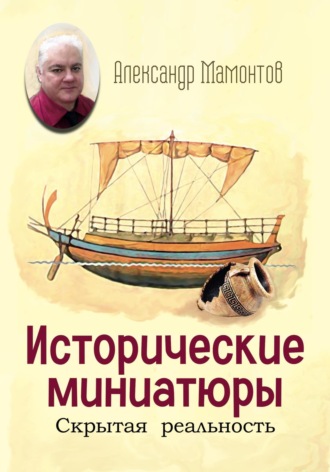
Полная версия
Исторические миниатюры. Скрытая реальность
Греки прививали своим детям столь славное качество с раннего детства: дома, в палестре, в гимнасии, в храмах и в беседах наставников. Завершалось воспитание юношей клятвой у статуи бога-покровителя; в малом подобно тому, как действо такое происходило на острове в море Эгейском, под названием Андрос.
О, свершалось на Андросе истинно важное: остров сей был местом амфиктионий, – так назывались религиозные союзы соседних народов для общего почитания божества-покровителя. Дионису приносились там жертвы; делегаты назначали охрану храма и пожертвованных сокровищ, и наказывали святотатцев (пред ликом бога!).
В русле амфиктионий ещё со времён критского господства при храме Диониса устраивались Ανδρει̃α (Андрии) – общие трапезы взрослых мужей. Умеренность царила там; в беседах застольных славили мужи степенные подвиги предков и рассуждали о добронравии юных.
Юные же сидели поодаль, и внимали смиренно, закон принимая, что вскоре объявит их мужами зрелыми. Тогда лишь, и только тогда меч и копьё им вручит отчий полис, и служба на благо страны им будет открыта, и юную деву в жёны взять сможет каждый, кто мужем предстанет на Андросе острове, у ног Диониса, Быкорогого бога, что мужей полноправных Покровитель от века…
Именно в рамках таких амфиктионий-андрий почитался Покровитель мужей – Дионис! И сам остров получил своё новое имя Андрос как центр важнейших для греков обрядов инициации полноправных и ответственных граждан: в честь «Быкоглавого» Алефа-Диониса, «Покровителя мужей». И покровителя мужества!..
Традиционно по сей день понимание мужества связывается с чертами настоящего мужчины, воина, рыцаря; и нет ничего удивительного в том, что в основе термина «мужество» лежит слово «мужчина». О мужественном человеке говорят: «обладает мужеством». Порой же ограничиваются коротким – «мужчина».
Аналогом мужества является благородство, и отсюда приятные смыслом и звучанием эпитеты: «благородный человек», «благородный муж».
Благодаря мужеству наилучшим образом проявляются лучшие человеческие свойства, в том числе доброта и сострадание. Парадигма мужества, его тесная связь с понятиями совести, чести, благородства предельно точно и ёмко отображает черты, несовместимые с образом настоящего мужчины:
Настоящий мужчина не похваляется своими подвигами в гостиных;
Настоящий мужчина не изменяет своему слову;
Настоящий мужчина не жалеет о подаренном;
Кто хулит такого же мужчину, как сам он, тот не мужчина.
Таким образом, мужество – это сплав волевых и моральных качеств, вызывающих искреннее уважение и восхищение. Всегда и во все времена!
Обладание настоящим мужеством дано не каждому, но стремиться к нему должны все, считающие себя мужчинами. Так думали древние греки, и такое понимание сего важнейшего качества гражданина они заложили в личном имени Ανδρέίος (Андрейос).
Имя Ανδρέίος вошло в славянский именослов в X-м столетии, и в русскоязычной форме Андрей обрело всеобщую любовь и почитание, и долгое время пребывало истинно княжеским.
Понимали ли внутренний смысл имени наши прародители?
О да, понимали вполне, и пониманию такому учили детей своих и внуков. А потомки те, обретя статус мужей – своих детей и внуков.
Мужество особо почиталось на Руси как доблесть высокая. В понимании русского человека отложилось осознание того, что мужу степенному лучше умереть, чем погрешить против мужества. Смерть не страшна, коль стоишь за правое дело, и, уповая на Бога, не погибнешь душой.
В древнерусском сборнике «Пожелание праведного спасения» говорится: «Сын, избегай и распри, но, коль поединок случится, не заслужи позора в мужестве своем: ни жизнь и ни смерть не бывают без пользы, а выйдешь с честью из боя – честь и обретешь».
Та же мысль проводится и в Поучении Владимира Мономаха: «Смерти, дети мои, не страшась, ни войны, ни зверя, дело исполняйте мужеское, какое вам Бог пошлет; никто из вас не повредится и не убьется, пока не будет от Бога на то повеления».
«Мужество есть великое свойство души; народ, им отмеченный, должен гордиться собой», – писал выдающийся российский историк Н. М. Карамзин, а гений земли русской Михайло Ломоносов восклицал: «Дерзайте Отчизну мужеством прославить!».
И славили… И славят лучшие из сынов Отечества, одолевая страх смерти храбростью перед лицом опасности, порой же удивляя видавших виды высшим проявлением храбрости – героизмом. На пике же всех этих проявлений всегда и справедливо находится мужество, как знаковое качество духа человеческого.
Сильная, горделивая и возвышенная составляющая заключена в этимологии имени Андрей, несущем в себе смысл – «мужественный».
Оставлен след имени сего и в народном календаре России:
В Андреев день – память его 17 июля – крестьяне смотрели на поля: озимь в наливе, так и батюшка овёс в кафтане. Овёс в кафтане, а на грече и рубашки нет.
На Андрея Стратилата – 1 сентября – поспевал овёс и начиналось бабье лето. Убирали свёклу и примечали, что южный ветер в день тот обещал добрый урожай овса.
На Андрея Первозванного ходили слушать воду в колодцах: тихо, не волнуется – знать, зима тёплая идёт; услышал чего – жди сильных вьюг и морозов.
Андрея молили девицы о даровании добрых женихов, а ввечеру денька заветного мечтали да гадали о суженых.
Ани́сим
Это имя имеет греческое происхождение. Образовалось в близкой связи с греческим понятием онесис – «польза». На языке древних эллинов имя Ονήσιμος (Онесимос) означает: «исполнение, завершение», «полезный».
В античной Греции существовал культ красоты наряду с поклонением изящным искусствам. Великие скульпторы и поэты, художники и зодчие, актёры и философы Эллады в стремлении к совершенству указали миру путь к прекрасному. Завершённость во всём, полезность и целесообразность – эти категории прививались от колыбели.
Каждый гражданин должен приносить пользу государству, полису, роду и семье своим – тем государство крепнет и развивается. Отсюда, от таких постулатов долга в человеке формируется настоящая, искренняя любовь к своему Отечеству. Отсюда же формируется и благодарность Отечества каждому достойному гражданину.
В ахейский период в Древней Греции жизнь человеческая была подчинена идеалу добра. Такой идеал у греков проявлялся в борьбе за существование и за власть. Добро во всём совершаемом просто обязано было совпадать с личной пользой человека, и отсюда высшим мерилом достойного человека считались действия, посредством которых он мог легче и полнее доставлять себе такую пользу. Что полезно человеку – то полезно обществу. Это и есть добро в его древнем обобщённом понимании.
На внутреннем плане добро вмещает в себе силу, мужество, ловкость, практический ум (не исключая хитрости), а также красоту и обходительность, – поскольку такие качества выдвигают одного человека из среды других.
Добрым у греков считался и тот человек, кто был способен принести наибольшую пользу друзьям, причём прибавление «и наибольший вред врагам» не считалось обязательным. Более того, врагов стремились прощать из милосердия и сострадания. Полагавший таким образом мудрый грек Питак утверждал: «прощение сильнее возмездия».
Нравственные преимущества человека считались естественным придатком физических, в идеале они ценились выше, а идеальный муж того времени – прекрасный и добрый человек. Такой качественный отпечаток стал служить общепринятой формой обращения друг к другу свободных граждан: калос каи агатос – «добрый и хороший»!
Греки были уверены, что доброта человеческая приятна и угодна богам, и нередко стремились напомнить богам о проявляемой ими доброте. И если возникшее позже христианство призывало творить добро анонимно, не афишируя себя, греческая мораль того времени исповедовала иной принцип – публичности творимого добра.
Какой принцип более эффективен для совершенствания человека?..
Разнообразны были методы такого неназойливого, на взгляд древних греков, напоминания небожителям о себе и добрых делах своих. Одним из таких методов служило… пение!
Действительно, обрядовая песнь, соединённая с пляской, служила актом, с помощью которого всякий добрый человек стремился привлечь внимание богов к себе. Искренне верили греки, что обитатели Олимпа не могли не услышать душевное, проникновенное исполнение, и не могли не вознаградить добродела. И пели греки, с пользою и для пользы! Следовательно, первоначальная цель обрядовой песни – польза.
Рабочая песня также имела в основе своей стремление облегчить физический труд людей путём внесения в него некоего ритма. И потому в песне рабочей также была заложена внутренняя цель – польза. Рабочая песня использовалась там, где совершались ритмические движения: марш воинов, ткущая женщина у кросен, слаженная работа гребцов, сеятель в поле, мукомол у жернова, пряха с веретеном, строители (раз-два-взяли!). Помогала песня удержать мерность движений и лад, что было полезным для дела.
Так в каждом деле, в каждом ремесле и занятии люди складывали свои песни и свои ритмы, служившие им на пользу. А слова в песне в устах одаренных складывались в рифмы. Так, в стремлении к пользе зарождалась поэзия. Девизом детства поэзии Эллады явился народный слоган: ora et labora (песнь и труд).
В ранний период своей истории, во времена «природных», или аниматических древнейших религий греки считали, что всё в окружающей природе имеет собственную душу. А души природные обладают собственными формами. В частности, известные животные в религиозном сознании греков служили олицетворениями тех качеств, какие казались им воплощёнными в данных частях природы. Медведь – воплощение дикого леса, трепетная лань – ласковой мягкими листьями рощи, длинногривый жеребец – отражение волнующегося моря (да-да, ибо владыкой упряжки жеребцов признавался сам морской бог Посейдон!), грациозная кобыла казалась воплощением волнующейся хлебной нивы, могучий бык – стремительный водный поток… И сама Земля представлялась людям коровой-кормилицей, какую оплодотворял своим дождём и светом верховный олимпийский небожитель Зевс, создавший Мать-Природу.
Человек того времени любил, уважал, и обоготворял окружающую природу. Не пакостил лес, оберегая деревья от огня и неразумной вырубки, брал от мира животного нужное для пропитания, щадил самок беременных и поросль младую, не разорял бездумно гнёзда птиц, не искал добычи лишней в период нереста рыб, холил и пестовал скот домашний…
И от представлений таких человек определял своё отношение к природе пользой, какую он желал получить от неё. А встречную пользу от природы человек видел в том, чтобы нивы и горные пастбища были тучны и обильны, родники не иссякали, реки не затопляли полей, грозовая туча не убивала людей и скот, и т. д.
Для обеспечения пользы от божественной природы человек прибегал в древнейшие времена к заклинаниям, позже – к молитве, храмовым приношениям и обетам… и к созданию личных имён и прозвищ, подобных имени Онесимос, выражающих столь важную для древних греков идею внутренней связи человека с окружающим миром, связи через взаимную пользу и полезность. Словно бы предлагал природе справедливые и взаимовыгодные отношения по формуле «ты – мне, я – тебе», не имеющей в те времена неискушенных нравов современный нам, увы, отрицательный подтекст.
Человек Древнего мира искренне хотел быть полезным природе, на следующем историческом этапе – роду и полису (городу), и столь же искренне являл такую пользу. И в том было проявление высшей морали минувшего времени: человек полезный – добрый человек, хороший и достойный человек! Такими древние греки воспитывали своих детей.
Полезность стала почитаться как идеал нравственных качеств человека. И как всякая знаковая категория в жизни греков, полезность находила свои воплощения. Одним из таких воплощений, как уже сказано, стало рождение имени человеческого Онесимос – «полезный».
В российский именослов греческое имя Ονήσιμος вошло в X-м столетии. Имя монахи-переводчики прописали в кириллице в форме Онесимос, но со временем в славянском обиходе образовались народные формы имени – Анисим, Анис, Онисим. Народная разговорная форма Анисим прижилась, и стала более популярной и массовой, чем базовое, точно переданное в звучании имя.
Наибольшее распространение имя Анисим получило в сердце России и в её северных и восточных областях, на Волге и в Малороссии.
Оставлен след имени в народном фольклоре: в древней и прекрасной Твери, у излучины реки Тверцы в придорожном станке (гостинице) в конце века XIX-го манивали проезжающих искусно резаной из липы вывеской: «В заведенье у Аниски звонки чарки, полны миски».
А́нна
Это имя является одним из самых почитаемых в современном мире, и имеет древнееврейское происхождение. Первородная форма имени – חַנָּה (Ханнах, или Хана).
На языке иудеев имя Хана означает «милость», «благодать», или в иных гранях осмысления – «грация, красота». В основе имени лежит корень ח-נ-ן (х-н-н). Его исконное значение – «милый, быть милым». Этот корень нередко встречается в древних словах и личных именах евреев. Милый, в понимании ветхозаветного времени, значит – угодный Богу, тот, к кому Бог расположен. Именно такой корень составляет основу имени Хана, от которого образованы известные нам имена Ханна, Энн, Энни, Анна, Ана и Анюта.
Но этот же корень лежит в основе и ряда других древних теофорных имён: Йоханан («Бог смилостивился») – современное Иоанн, Иван; Ханания («рождённый в Ханаане, земле милостью Бога данной») – современное Ананий, и т. п.
В нашем ключе большой интерес для понимания граней смысла представляет топоним Ханаан, не единожды упомянутый в священных текстах.
Ханаан – по библейскому повествованию – легендарная земля, куда Бог повелел легендарному вождю народа израильского Моисею привести евреев из плена египетского. Топоним своей конструкцией свидетельствует, что Бог явил милость и указал беглецам путь в благодатную землю, по представлениям древних «текущую молоком и мёдом».
И эти представления живы! «Страна, текущая молоком и мёдом» – традиционное и ныне самоопределение государства Израиль.
Однако, имена подобного рода образовались в те времена, когда прошедшее время в языке евреев еще не сформировалось, и потому грамматически точный первосмысл здесь – «(Бог) милостив».
Это весьма непростой первосмысл, ибо в понимании верующих евреев каждое имя, в котором упоминают Бога, относится к одной из Его характеристик, посредством которых Творец открывается своим творениям.
Мудрецы библейского народа ещё тысячи лет назад сформулировали картину проявления Бога: в центр Божественной сущности эманируется луч света, какой заполняет его десятью сфиротами – предвечными идеальными числами, образующими область представления Бога в его различных ипостасях. Четвёртая из них – хесед, означающая «милость», или «величие, грация, доброта, услуга, благоволие».
Отсюда следует, что образованное в древнееврейской традиции имя Хана содержит знаковое понятие ХЕН, означающее привлекательность как результат внутренних качеств. Когда человек обладает ХЕН в глазах Всевышнего, это означает, что Творец находит его приятным и желает оказать ему Божественное содействие – милость.
Дополнительные слова, базирующиеся на корне ХЕН – это хонен («даровать милость»), ханина («помилование»), леитханен («умолять»).
Вторая смысловая грань образующего имя корня – «грация, красота». Всякий человек хоть однажды задавался вопросом, что такое красота. Современники наши не задумываясь судят, что тот человек красив, а другой не очень. Субъективно, конечно, потому что вкусы и уровень восприятия у всех разные. Но красота-то одна, она или есть, или её нет; красота в отдельном или в целом, красота предельная или красота совершенная, сотворённая человеком или божеством…
Где границы красоты, и что же вкладывали в это понятие древние?..
Красота – благолепие, великолепие, живописность, изящество, изящность, картинность, миловидность, нарядность, прелесть, пригожество, художественность…
Грация же – миловидность, изящество, скромная привлекательность, нежная красота, невинная прелесть, умильность, или красота в движениях и позах.
Милость – качество или свойство милого на вид, приятность; свойство человека любящего; снисходительная любовь; радушное расположение, желание кому-то добра на деле; прощение, оказанная пощада; благодеяние, щедрость; благоволение, оказание кому-то отличия, награда.
Благодать – наитие свыше; любовь, милость; благодеяние, благотворение; преимущество, обилие, довольство.
Во множестве слов, описывающих внутренний мир имени Анна, проявляется простой и в то же время удивительно сложный смысл, словно бы высказанный кем-то очень добрым, и очень мудрым: «красота твоя и грация стати, приятность всего внешнего облика – печать милости Бога»!
Поразительно точное определение подобного сочетания качеств дал великий писатель земли русской Л. Н. Толстой. Описывая в романе «Декабристы» вернувшуюся из Сибири жену сосланного на каторгу декабриста, он подчеркивал, что, несмотря на долгие годы, проведенные той в тяжелейших условиях добровольного изгнания, «нельзя было себе представить ее иначе, как окруженную почтением и всеми удобствами жизни.
Чтоб она когда-нибудь была голодна и ела бы жадно, или чтобы на ней было грязное белье, или чтобы она споткнулась, или забыла бы высморкаться – этого не могло с ней случиться. Это было физически невозможно. Отчего это так было – неведомо, но всякое ее движение было величавость, грация, милость для всех тех, какие могли пользоваться ее видом…».
В этом вся суть печати милости Всевышнего, воплощённая в прелестном женском имени Хана-Анна.
К слову, в древности имя Анна могло быть и мужским. Библейская история упоминает некоего Анну, иудейского первосвященника, проводившего первый допрос Иисуса Христа после взятия Его под стражу в Гефсиманском саду. Впоследствии Анна был низложен эдиктом римского императора Тиберия.
Женское имя Анна множество веков пользуется необыкновенной, устойчивой популярностью во всём христианском мире, подобно тому и Анита – испанская уменьшительно-ласковая форма от имени Анна.
В российский именослов имя Анна вошло в X-м столетии. Благодаря персонажам Новозаветного предания имя полюбилось и в домишках простых людей, и в дворцовых палатах российской знати.
Оставлен след имени и в народном календаре: день святой Анны – 16 февраля – на Руси называли «починками». Крестьяне в день тот осматривали и чинили лошадиную сбрую.
Иной Аннин день – память 7 августа – называли в народе «Анна-холодница, зимоуказница». По дню сему судили о зиме: какая погода после обеда – такова будет зима после декабря. Погода тёплая и светлая – быть холодной зиме; если же дождь – зиму ждать снежную и тёплую.
На Анну-скирдницу – 10 сентября – спешили убрать хлеб в скирды, славили урожай и затевали ярмарки.
В Аннушкин день – память 22 декабря – беременным женщинам полагалось поститься, их освобождали от всякой работы. Замечали, что к Аннушкину дню волки сбивались в стаи, и становились особенно опасными. В лес и в поле снежное без нужды крайней хаживать да езживать в день тот боронились.
Анто́н и Антони́на
Имена эти имеют римское происхождение, и греческие корни. На языке древних римлян первородное имя Antonius (Антониус) означает «состязающийся», «противник, соперник». Римляне заимствовали лексическую основу этого имени у своих учителей и великих предшественников греков, от традиционных имён Антигон, Антипатр, и т. п. Но выработали собственную именную форму Антониус.
Заимствование произошло исторически случайно, и первородный смысл основы имени «Анти-» для мировоззрения римлян не был столь же значимым и глубинно понятным, как для греков. И потому римляне не ощутили полноты граней смысла этой важнейшей для мировоззрения античных греков именной основы.
Удивительной и яркой была жизнь древних эллинов, и вся она представлялась неким большим и длительным соревнованием. Явная и скрытая соревновательность наблюдалась во всем. Соперничали между собой различные эллинские племена, а затем и государства панэллинского мира за гегемонию на Пелопоннесе. Отношения с соседями-варварами сопровождались борьбой за территорию и первенство в Средиземноморье. Так всё это выглядело на внешнем плане.
На плане внутреннем, индивидуальном каждый уважающий себя гражданин греческого полиса (города) должен был делать все возможное, чтобы не вызывать порицания окружающих. Сознательно или бессознательно он вынужден был контролировать все свои поступки, чтобы те соответствовали принятой системе ценностей. Это было своеобразное соревнование за одобрение своих дел, а значит, и за добрую славу своего имени. А к доброй славе имени греки относились со всей серьёзностью. В том числе и по карьерным соображениям.
Для того чтобы выдвинуться в обычно невеликом по территории и по числу граждан полисе, также необходимо было вливаться в соревнования в различных сферах деятельности: политической, военной, экономической, интеллектуальной, художественной и т. п. Не случайно один из исследователей античности назвал грека архаичной эпохи «агонистическим человеком» (от άγο')ν – «соревнование, состязание»). Но фишка в том, что такие соревновательные начала во всех сферах их существования приносили эллинам радость великую.
Понимание радости в Древней Греции основывалось на религиозной почве, как и многое другое в её удивительной жизни. Радовать стремились прежде всего богов-покровителей. И древнему греку показалась бы дикой мысль радовать своё божество бездельем. Греческие праздники становились в основе своей служением богу, каковое должно было доставлять богу радость. Рождённое отсюда понимание того, что всё радующее человека радует и бога, делало греческие праздники средоточием радости.
Ум эллинов был поразительно изобретателен во всяком проявлении радости. Великий законодатель и управленец Перикл сказал некогда в своей знаменитой речи: «И мы в большей мере, чем какой-то другой народ, доставляем нашему духу облегчение от насущных трудов, учредив тянущиеся через весь год жертвоприношения и состязания… красота которых не даёт возникнуть чувству грусти».
Это состояние духа было обычным для греков, и потому всё, что только можно было, пронизывалось духом состязания, от самого простенького и шутливого состязания в скорости выпивания кружек с разбавленным вином, до самого серьёзного и возвышенного состязания в красоте созданных поэм, зданий, атлетических тел, и… рождённых детей.
Неудивительно, что для греков в их радостных феериях – праздниках – заключался мудрый смысл и оправдание самой жизни.
Спортивные игры явились наиболее ярким выражением соревновательного духа в Древней Греции. О значении, какое придавалось спортивным состязаниям еще в эпоху Гомера, свидетельствует 23-я песня «Илиады», в которой рассказывается о ристалищах, устроенных некогда в честь погибшего героя Патрокла. В программу этих ристалищ входили состязания на колесницах, борьба, кулачный бой, бег, метание диска и копья, стрельба из лука – все те виды спорта, что позднее стали включаться в программу Олимпийских и других спортивных игр. Победители Олимпиад, а греки уважительно и гордо величали таких выдающихся атлетов «олимпионики» (όλυμπιόνικοι), рассматривались буквально как национальные герои. В их честь сочинялись музыкально-поэтические произведения, ваялись их скульптурные изображения. Слава победителя игр в веках переходила на родственников и потомков олимпионика.
В античном мышлении победа на Олимпийских играх являлась свидетельством некой избранности человека, демонстрация его сверхъестественных возможностей и явного, заслуженного превосходства над остальными. Это понимание объясняет стремление древнего грека утверждать свое первенство путем соревнования, и с тем обретать славу, дарованную благосклонным божеством, ибо древний грек убеждённо верил, что судьба всегда и непременно пребывает на стороне победителя.
Важнейший для греков принцип состязательности определил создание в живом языке множества выражений и понятий, основанных на корне анти – «против». Например: Антонеомен – «состязаться на торгах». Со временем в живом языке греков возникла т. н. антономазия – риторическая фигура, состоящая в том, что в речи вместо собственного имени употреблялось описательное выражение, например: «сын Афродиты» вместо Амур.
Впоследствии римляне охотно заимствовали сей ораторский приём, и оснащали свою речь изысканными выражениями: «разрушитель Карфагена» вместо простого упоминания имени Сципион; или же, напротив, собственное имя употребляли вместо нарицательного имени, например: «настоящий Цицерон» вместо «сильный оратор».
В таком русле у их учителей греков образовались и многие имена человеческие с подобной основой. Антигон – от греч. ἀντί «против» + γονή «рождение, потомство»; Антилох – («против» + «отряд»); Антимах – («против» + «сражаюсь»); Антиной – («против» + «замечаю, понимаю, думаю»); Антиопа – («против» + «лицо, вид, взгляд»); Антипатр – («против» + «отец»); Антифан – («против» + «явление, появление»); Антенор – («против» + «муж (человек)»; Антэрос – («против» + «любовь, страсть»).