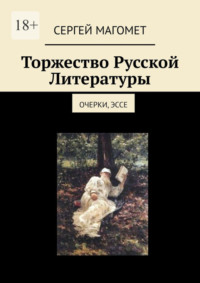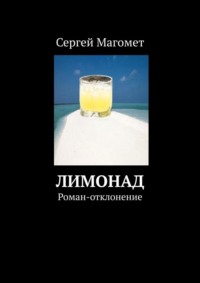Полная версия
Русские апостолы. роман
Я вижу, что он нисколько не шутит. Простодушный, всё на лице написано. Матерится через слово, очень грязно, бессмысленно.
Неожиданно для себя самого, из жалости, что ли, вдруг встаю и осеняю его крестным знамением. Что с ним делается! От ярости его аж перекашивает, трясется весь, словно припадочный или одержимый бесом. Даже беленькая пена на губах появляется. Я спокойно жду, когда он немного придет в себя и тогда говорю:
– Нет, не буду отрекаться от Бога. У меня ведь ни жены, ни детей, никто не пострадает из-за моих религиозных убеждения. Я готов пострадать за Христа, даже до смерти. И крест ни за что не сниму с себя.
– Вот дурень-то, твою мать! – бормочет он. – Дурак одно слово!
– Может и так…
Тогда за меня решают взяться по-другому. Отводят и сажают в одиночку. А ночью вталкивают в камеру молодую цыганку. Она болтает всякую чушь и всё норовит хватать меня руками. Но, отвернувшись, я молча молюсь. Какой уж там сон… Однако перед рассветом начинаю клевать носом. Только забылся, как чувствую, она уж осторожно шарит в складках моей рясы. Моментально вскакиваю, крещусь от греха, и поднимаю руку, чтобы и ее перекрестить. А она, бедняжка, подумав, что я хочу отвесить ей оплеуху, вся съеживается, ныряет от страха к полу, как собачонка, привыкшая к пинкам. Ужасно жаль ее, даже слезы выступают.
– Ах, ты ж, бедняжка, – говорю.
В общем, усаживаемся вместе на скамейку и рыдаем. Потом, расчувствовавшись, цыганка шепотом обещает, что как только выйдет на волю, так первым делом побежит в храм.
– Ну, может, и не побежишь вовсе, – качаю головой я, – но всё ж постарайся, милая!
Сколько времени прошло, что-то затрудняюсь определить… До чего же чудно: я в узилище всего ничего, а уже совсем потерял чувство времени. Чудно и другое: мое заточение вдруг ужасно напомнило мне, как в детстве я сидел вдвоем с дедушкой в глухой лесной избушке. Конечно, с той разницей, что тогда я переносил заточение по своей воле, да и если уж совсем невмоготу от скуки и тоски, мог в любой момент убежать оттуда… Впрочем, теперь Господь сподобил меня такой горячей молитве, что я забываю буквально обо всем на свете – и о том, что в тюрьме, и о тоске-унынии… Да и воспоминания о дорогом дедушке – в высшей степени утешительны.
Что ж, рано или поздно всё как-нибудь решится. Вот, меня приводят к судье, а тот говорит, какой я злодей, какие преступления совершал. По-другому и не скажешь. Во-первых, подтвердились все обвинения. А именно, доказано, что я из бывших князей (несусветная чушь!), в общем, из этих, из бывших «благородных» (почему бы и нет? Только почему «бывших»? ), что я решил отдать жизнь за Христа (совершенная правда!), так как завербован матерыми церковниками-контрреволюционерами (чушь!), которые ненавидят советскую власть и всё, что она делает (правда!). Будучи в Красной Армии, даже нося военную форму, посещал храм, принимал участие в богослужениях, читал Евангелие (тоже совершенная правда). Кроме того, прилежно занимался богословским самообразованием (ах, если бы так!), посещал с этой целью нелегальную духовную академию (неправда!). То есть фактически являюсь молодым членом подпольной монархической организации (неправда!), созданной группой церковных старцев из ликвидированных монастырей, имеющей целью создание подпольных контрреволюционных братств и сестричеств и продолжение религиозной агитации и пропаганды, посредством распространения среди населения слухах о религиозных гонениях и преследованиях со стороны Советской власти, а также о убийствах и пытках в исправительно-трудовых лагерях (неправда! неправда! неправда!) … Ну, что касается гонений и преследований, то это совершенная правда.
Всё это изложено слово-в-слово в моих признательных показаниях, отпечатанных на машинке, которые положили передо мной, и мне осталось лишь поставить свою подпись.
Как странно, правда и ложь смешаны здесь таким невообразимым образом, что отделить одно от другого просто невозможно. Как бы то ни было, подпись свою ставить я, конечно, наотрез отказываюсь.
Ну вот, был суд, и я и осужденный. Отправляют меня в какой-то далекий лагерь, всего на пять лет. От этого пребываю в восторженном состоянии, обнимаю отца Симеона и шепчу:
– Как хорошо-то! Я как будто у самых врат Рая!
Но батюшка не приемлет такой моей восторженности.
– Не врата это никакие, а только твоя гордыня, милый. До врат тебе еще далеко, чадо…
Осень так и сияет золотом, повсюду златые горы, охапки облетевших листьев, солнышко смеется. И на сердце так же весело. Погода бесподобная, теплынь и нежность в воздухе чудесные. Жаль только, что смотреть на эту Божью благодать приходится через решетку тюремного вагона, в котором я трясусь вместе другими государственными преступниками. Куда нас везут – один Господь только и ведает.
Увы, уже на третий день пути погода ужасно портится. С ночи дождик падает беспросветный, льдистый. Теперь трясемся в вагоне еще и от холода. И настроение сразу как-то упало. На больших станциях и полустанках вагон то и дело отцепляют от состава, загоняют на запасной путь, где дожидаемся многими часами, или даже днями, пока снова подцепят и погонят дальше. К тому же подсаживают по пути всё новых и новых осужденных, есть и бандитские элементы, притесняют всех остальных ужасно.
На одной из станций, прижавшись лицом к решетке, вижу у насыпи маленькую девочку, лет пять или шести. Охранник шикает на нее:
– Пошла, пошла отсюда!
Но она не уходит, пищит:
– Ну пожалуйста, дяденька, скажите, где папочка?
– Пошла! Не положено разговаривать!
– Почему?
– Потому что я тут на посту!
– Умоляю, дяденька! Дайте сказать ему хоть словечко!
Один из новых арестантов протискивается к окошку рядом со мной, приникает к решетке.
– Уходи, уходи, родненькая, – просил он девочку, – а то охранник еще выстрелит, или еще что-нибудь…
– Папочка, родненький! Только одно словечко!
– Ты голодная? Ты сегодня ела?
– Да, да. Мы ели. Я и тебе немножко принесла.
– Ради Бога, уходи отсюда!
Слушаю их и изо всех сил молюсь про себя. Сердце разрывается от жалости.
Твердо решил более ничего не сообщать о себе ни родным, ни знакомым, прекратить отношения со всеми – чтобы через меня и им не было каких-нибудь неприятностей. Им теперь идти своей дорогой. И сестре моей, мужней жене и матери, а также ее любимому супругу. Да и мне так спокойнее – иметь в душе только одного Христа.
Поезд опять катится на север, еле-еле ползет, всё какими-то извилистыми путями, через леса, луга, болота. С питанием крайне плохо, и многие из нас жутко ослабли. Делать совершенно нечего, да и невозможно – только лежать, выбрав уголок посуше, пытаться согреться, завернувшись в какие только можно тряпки. Выпускают из вагона только для того, чтобы вынести парашу и принести в бидоне свежей воды.
Трое самых слабых осужденных сразу заболели и вскоре померли, а убрать трупы распорядились только по прибытии.
Если я Божий, то Господь меня и сохранит, накормит и обогреет. Не думаю, что такая мысль является сколько-нибудь искусительной. Даже одолеваемый скорбями, человек всегда может рассчитывать на бесконечную щедрость Господа. В этом я абсолютно уверен.
Прошло около месяца, прежде чем мы добрались до пункта назначения. Вернее, туда, где заканчиваются рельсы и шпалы. К несчастью, к этому моменту мои собственные силы тоже совершенно меня покинули. Несколько последних дней я лежу на холодном полу, и, когда вылезаю из вагона, оказывается, меня не держат ноги. Так и осел на землю. Задыхаюсь, как жалкая старуха, покрываюсь холодным потом, пытаюсь подняться, но – снова падаю. Тут еще конвоир как заорет:
– Это что, саботаж?! – И ну пинать меня сапогами – и в живот, и в голову.
Еще повезло, что на станции оказался врач, кто-то побежал за ним, тот осмотрел меня и объявил, что «сей дрыщ» (то есть я) ничуть не саботирует, а на самом деле тяжело болен и должен быть немедленно отправлен в лазарет… Меня и отправляют.
Слава Богу, оклемался и кое-как поднялся на ноги. Учитывая, что я как ни как недоучившийся медик, меня оставляют здесь же, при тюремной больничке. Вот радость-то! Что может быть лучше, как помогать страждущим!
Больничка крохотная, к тому же единственная во всей округе. Работы невпроворот, нужно поспеть всюду: и в хирургию, и в палату, и в стылый погребок, переделанный под морг. Носимся как угорелые. Мы – я и одна вольная, по имени Татьяна, чрезвычайно религиозная женщина, оба на подхвате у врача и фельдшера. И, конечно, как можем, лечим, стараемся хоть ненадолго подержать у себя людей, надрывающихся на смертельно тяжких лагерных работах.
Больничка худая, жалкая – самое место, чтобы непрестанно молиться, трудиться во искупление прошлых грехов. Вот только здешний народ, жизнь которого сплошная пытка, пугающе и почти поголовно впал в безбожие. Многие из них, понятно, отчаянно запуганы, прячут свою веру. Часто даже на смертном одре. А то и вовсе впадают в самое злостное богохульство… Иногда меня посещает печально ощущение, что нет более ни русских, ни самой России, а все мы ухнули-провалились в какое-то древнее поганое язычество.
Но какая же неземная радость для Татьяны и для меня, когда нет-нет да обнаруживается в людях жажда веры и любви ко Христу!
К слову сказать, прошло уж изрядно времени, может, и несколько недель, если не месяцев, пока до меня доходит, что Татьяна-то моя, оказывается, работая в больнице почти круглосуточно, вообще не состоит в штате и не получает ни копейки зарплаты. Другого такого человека, скромнейшего, неприметного и самоотверженного, я в жизни не видывал! Если же ей начисляют немного денег, то она немедленно тратит всё до копейки, чтобы помочь нуждающимся, особенно, заключенным. Ее любовь к каждом человеку просто безгранична, простираясь одинаково как на верующих, так и на неверующих.
Несколько раз в году Татьяна непременно выбирается в губернский город, в церковь, чтобы исповедоваться-причаститься, вкусить Хлеба и Вина, а также привозит частичку Святых Даров и мне, грешному. Стоит ли говорить, что я чувствую себя счастливейшим из смертных! Притом что за три года, проведенных здесь, мы с Татьяной ни разу не сказали друг с другом больше пары слов.
И вот однажды за ней приходят в больницу и арестовывают за «религию». Первым делом требуют, чтобы она сняла с себя крестик.
– Если снимете, то только вместе с моей головой! – отвечает Татьяна.
Позже нам сообщают, что ее арестовали якобы также и за вредительство, за то, что она «умерщвляла больных». Назад она так и не возвращается… Я совершенно убит ее арестом. Тем более что до моего освобождения осталось каких-нибудь две-три недели!
Что ж, вот и нужно решать, куда отправляться на жительство. Селиться в Москве и нескольких других больших городах мне теперь запрещено. Меньше всего желания обременять сестру и ее семейство. Между тем вопрос пропитания стоит как нельзя остро. К тому же, проработав в больнице почти пять лет, я едва мыслю себя без привычных обязанностей, не говоря о том, чтобы вовсе остаться без работы, – ведь паек безработного ссыльного составляет в день полбуханки черного хлеба в день, полкило перловки, фунт соли да два кило селедки в месяц, и три литра керосину – на всю зиму.
Еще хорошо, что при отъезде больничный врач снабдил меня рекомендательной бумагой, чтобы при необходимости я мог доучиться, получить какую-нибудь медицинскую специальность и устроиться на сколько-нибудь приличную работу.
О том, чтобы найти приют в каком-нибудь монастыре, кажется, нечего и думать: почти все монастыри закрыты или вовсе разорены и разрушены, а те, что остались, увы, как ни прискорбно, никак мне самому не подходят.
А что душа?.. Что бы я себе не думал и не внушал, я по-прежнему слаб, жалок, колеблем, как тростинка на ветру. Вот и всё.
Боже мой, сколько лет я не был в храме!.. Словно изможденный странник в безжизненной пустыне, припавший к роднику, бросаюсь на последнем издыхании в первую же церковь, увиденную по выходе свободу… И всю ночь напролет молюсь-молюсь, воссылаю хвалы Христу и Пресвятой Богородице, а также всем святым женам и мужам, почившим и ныне здравствующим, поминаю всех моих дорогих, кого только могу припомнить, и тех, кого не могу… Я словно снова на распутье.
«Любимые мамочка и папочка! Дорогой дедушка и батюшка Симеон, отец архимандрит и брат Феодор, милая Татиана, молитесь и вы Христу обо мне!..» – говорю пред иконой Пречистой Девы.
И тут, словно Она Сама взглянула прямо мне в душу, на меня пролился чудесный свет. Правду говорят, кто единожды испил из этого чистого источника, более никогда не вернется к мертвым водам мира сего, не прельститься его лукавыми соблазнами.
В общем, была не была, еду прямо к Патриарху и прошу посвящения меня в сан. И сразу получаю положительный ответ. А тут еще как раз кстати подворачивается вакансия диакона в одном подмосковном храме. Я счастлив прямо-таки до невообразимого. И сразу отправляюсь туда.
Престарелый отец-настоятель подслеповат, трясется весь, словно студень, и нрава сварливого, с порога заявляет, что диакон храму не требуется, ибо приход мал и нищ до крайности, а прихожан по пальцам пересчитать. У него у самого жена, совсем слепая, тяжелобольная. Ни детей, ни помощи. Едва взглянув на него, я тут же понимаю, что, кроме всего прочего, беднягу еще и мучает жестокое похмелье. Поэтому я просто выхожу вон и отправляюсь бродить вокруг церкви, осматривая его неказистое хозяйство. У сарая вижу сваленные грудой дрова – и, взявшись за колун, принимаюсь их рубить.
Намахавшись до полного изнеможения, ложусь, устроившись прямо на ступеньках церковного крылечка, – благо лето еще и ночь выдалась теплая. Так и засыпаю… А на рассвете просыпаюсь, ежась от холодной росы, творю Иисусову молитву. Не знаю, смогу ли подняться, такая слабость. Но тут выходит слепая и болящая попадья, с миской каши и кружкой кваса и молча ставит передо мной. А еще через малое время, когда я поел, появляется и сам старик-священник, бренчит ключами, перешагивает через меня и отпирает храм.
– Ишь, – говорит мне, – разлегся тут, лентяй-лежебока! Ну-ка, вставай давай, пора служить, дьякон новоиспеченный!
Радостно вскакиваю и бегу к алтарю. Занимаю положенное место и начинаю читать. Вот и началось мое служение!
Всё идет просто чудесно. Впрочем, понимаю, нужно всегда держать ухо востро и непрестанно молиться Богу, чтобы вдруг не попасть в какой-нибудь переплет. Ну а вопрос о несовершенстве нашего поврежденного мира оставляю в стороне.
Да как же в стороне – вот, пожалуйте: мой батюшка подвержен слабости – он прегорький пьяница. Когда он является в храм шатаясь и с запахом неудобоваримым, я готов провалиться сквозь землю от стыда и отчаяния. Еще хорошо, когда неимоверными усилиями удается уговорить его прилечь на лавку в алтаре, пока он не заснет. Потом я выхожу к людям и объясняю, что сегодня службы не будет, батюшка не может служить по причине плохого самочувствия. Когда же он служит нетрезвым, я как могу стараюсь заслонить его от публики и читать погромче. А также делаю возгласы вместо него. Благо у нас голоса очень похожи.
Трагикомизм в том, что очень скоро старика все-таки арестовывают как врага народа. Причем вменяют бедному пьянице антисоветскую пропаганду. Уводят прямо из храма – покорного, тихого. И что особенно надрывает сердце – вместе с ним, поддерживая под руки, уводят и слепую старушку-попадью.
А меня не трогают. Причина, думаю, проста: на момент батюшкиного ареста мои документы еще не пришли из Патриархии. В тот же день церковь опечатывают и закрывают. А еще через короткое время разоряют и оскверняют.
Вот, снова я между небом и землей. Найдется ли закуток, где продолжу монашескую жизнь? Вокруг ни монастырей, ни хотя бы братских общин. Даже храма, чтобы просто помолиться, и того не сыскать. Как это похоже на времена первых христиан, когда объявить себя таковым означало верную погибель! Как же так, ведь теперь объявлена свобода вероисповедания? Объявлена-то объявлена, да только на деле-то людей казнят…
Вроде я уж далеко не в юных годах, а только сейчас понимаю, как это глупо – ждать от мира сего логики и закона. Если на этот раз мне дана передышка – то надо молиться и вопрошать Господа, для чего. Неужели, для того чтобы я вновь обдумал свой выбор?.. А может, по своим грехам я вовсе не достоин его?.. Не хочу и думать об этом!.. Ах, мысли-мысли!.. Пусть уж будет, что суждено. А мысли – они не от Бога, их словно нашептывает в ухо лукавый, чтобы заронить в душу сомнение и уныние… Я теперь хочу лишь одной мысли – о Тебе, Господи!.. Правду говорит Павел, Твой апостол, Господи: «Горе мне, если не проповедую!..» В этом всё… Однако, однако… Пусть будет не как я хочу, Господи, а как Ты!..
Скоро зимушка. А я ума не приложу, что делать. И вдруг – Боже мой! – мне предлагают место священника! Даже еще в тех самых краях, где жил мой дорогой дедушка! Что ж тут думать, слава Богу! Рукоположенный в иеромонаха, с Божьей помощью отправляюсь к месту службы.
Вот чудеса: раньше я не отличался такой уж сильной памятью, а тут Господь сподобил, да так, что если прежде боялся, то теперь служу полную службу легко, почти без запинки. К тому же помощник мне даден – лучше и желать нельзя – диакон Феофилакт, монах, хоть и в преклонных летах, но знающий чины на зубок, всегда готовый подсказать мне, если вдруг запнусь.
Этот Феофилакт, правда, замечательнейшая личность: такой крохотный, словно карла, весь в какой-то коросте, словно старая береза, заплатанный да обношенный. В первый смутные годы Феофилакт ушел и таился где-то по глухим лесам с дюжиной других монахов, там даже основал скит и монастырское житие, сплошь убогонькие землянки. Таились они так вплоть до самого недавнего времени, очень успешно, подобно древним старцам-пустынникам, не имея никаких связей с миром. Могли бы, пожалуй, так и дальше существовать бесхлопотно и тайно, да только однажды завелась у них животинка, кошачок, которого Феофилакт подобрал котенком в развалинах какого-то разоренного, опустелого хутора, из-за него и вышла вся беда. Все монахи души в этой животинке не чаяли, так любили, что никому и в голову не пришло о возможных кознях врага, который, как вскоре обнаружилось, отнюдь не дремал. Кошачка унюхала охотничья собака и привела охотников к земляному монастырю, а охотники сообщили властям. Немедленно в лес было послано НКВД, переловившее лесных отшельников. По приговору военного трибунала монахи были осуждены и истреблены на месте. Только «карла» Феофилакт, по причине своего необычайно малого размера, счастливо уместился в дупле старого дуба и избежал общей участи. Истерзанные же браться были закопаны в своих землянках.
Вспоминая о животинке, которую он приютил, бедняга рыдает взахлеб, задыхаясь.
– Милый мой, – говорю ему, – это совсем не твоя вина!
– Может и так, отец, – шепчет он, – да только вся моя братия теперь на небесах, все святые угодники у Бога, а я, здесь – на муки и погибель…
Я и сам не могу удержаться от слез.
– Ну, – говорю ему сквозь рыдания, – может, Господь всё как-нибудь устроит…
В общем, начал служение на новом месте. Совершаю требы, хожу, выезжаю куда ни попросят, и в непогоду, и в любое время. Дни идут, и всё хорошо ладится. Но о монашеской бдительности не забываю и тщеславиться опасаюсь. Помню также, что нынешняя тишь да благодать – Божий Дар, ниспосланный по молитвам моих, хоть и немногочисленных, прихожан.
Потом местным властям вдруг понадобилось закрыть и нашу церковку (а меня, соответственно, кинуть в узилище), и предлог выбрали самый нелепый: якобы, я не плачу налогов. Они бы и храм закрыли и меня арестовали, если бы не одни добрые люди, сами страшно бедные, которые продали единственную корову, чтобы уплатить за меня требуемое… И вот какое чудо: теперь каждый Божий день у них, у этих моих благодетелей, на крыльце неведомо откуда появляется полный кувшин молока и большой каравай хлеба, и так весь этот год, – а год-то ведь выдался голодный, неурожайный.
Теперь меня вызывают в контору.
– Не будем ходить вокруг да около, – говорят. – Если вам нравится ваша религиозная темнота, то и на здоровье – молитесь хоть лопните. С другой стороны, вы человек еще молодой, авось, как-нибудь в голове и просветлеет. Мы можем дать вам богатый приход и от налогов освободим. Взамен нам нужно всего ничего. Подпишите бумагу, что обязуетесь сообщать нам о настроениях прихожан. Так, кстати, все местные священники делают.
– Нет. Доносить не буду, – говорю я.
– Тогда вообще запрещаем вас к служению. И немедля – вон из московской области!
Что ж, делать нечего, теперь нужно собирать вещички и переезжать куда-нибудь подальше.
Но вот… объявляют, что война!
Теперь и вовсе непонятно, что делать. Куда ни кинь, всюду клин. Куда не подашься, всюду мгновенно сочтут за подозрительную личность. Никуда не въехать и ниоткуда не выехать, всюду проверки и заслоны. Поэтому не придумал ничего лучшего, как отправиться в саму Москву, хоть мне и запрещенную, как-то перебиться, просить хоть немного пожить тайно у сестры. Разрешит ли?
– Да что ты такое говоришь, родненький брат! – с удивлением говорит та. – Этот дом такой же твой, как и мой! Я так рада, братик, что теперь мы будем жить вместе!
А тут еще ее мужа мобилизуют и отправляют на фронт. А перед тем сестра с мужем отправили деток подальше от войны – к дедушке с бабушкой.
Так и поселился и живу тайно у сестры в маленькой комнатке на чердаке. Сестра работает сутками и, отправляясь на смену, оставляет мне немного еды и питья, и тщательно запирает дверь, навешивает снаружи большой замок. Я чувствую себя в полном затворе и необычайно рад моему крохотному монастырю: здесь так спокойно и хорошо! Непрестанно читаю молитвы. Слава Тебе, Господи!
Все-таки приходят.
Сбивают замок, вышибают дверь. Вваливаются в комнату.
– Сколько ж, – говорят, – бензину по Москве пожгли, чтобы прищучить дьявола!
Чувствую, какой я длинный, неуклюжий, тощий, как жердь, ссутулившись, стою, чуть не упираясь головой в скошенный чердачный потолок, молча гляжу на них. Да будет воля Твоя, Господи!
Не спеша начинают обыск. Довольно долго, как бы лениво ищут. Что ищут, Бог знает. Возвращается с работы сестра и молча становится рядом со мной, очень старается не заплакать.
Наконец, рады, кажется, находят, что искали: большой конверт оранжевого цвета, странного вида, он почему-то засунут под матрас. Откуда он взялся – тоже неизвестно. Таких конвертов мы сроду не видели. С многозначительным, почти торжественным видом они кладут конверт на столик под лампу. Потом открывают и извлекают из него… фотографический портрет Гитлера!
Я прищуриваюсь, чтобы разглядеть его получше. Это прекрасная фотография, большая, шикарная. Не удерживаюсь, иронически хмыкаю.
– Интересно, – говорю, – там, наверное, и автограф имеется, а?
– Ну конечно, тебе, ученому, виднее, – говорят они с каменным выражением лиц.
Сестра все-таки начинает плакать.
– Сестренка, что ты, – успокаиваю ее, шепчу с улыбкой, словно она маленькая девочка, – ведь не печалиться надо, а радоваться!
Как жаль, что нет времени объяснить ей, что сейчас, может быть, настал лучший момент в моей жизни. И она плачет и плачет. Молюсь лишь о том, чтобы и ее не арестовали вместе со мной. И ее оставляют. Теперь у меня нет ни малейшего сомнения, что с ней и с ее семейством в будущем всё будет хорошо…
Только два дня в тюрьме, а я уж опять потерял чувство времени. Отчасти, конечно, потому что сильно побили, и не раз, но главное, что совершенно не дают спать, даже нескольких минуток. Допросы идут непрерывно, одни и те же вопросы снова и снова, причем нелепейшие, такой у них тут оборот. Только следователи меняются, работают посменно. Таскают из одного кабинета в другой. Еще от меня требуют, чтобы я рассказал про всех своих знакомых и духовных чад, всё ищут фактов, чтобы засудить меня не только за «религиозную пропаганду», а и за «подрывную фашистскую деятельность». Но все мои ответы – «не знаю» или «не помню», или просто молчу. Поэтому меня опять сильно побили, потом еще раз. Я упал, и меня побили ногами. Теперь еще и половину волос выдрали – с головы, из бороды. Посмотрел случайно в зеркало на стене в одном из кабинетов, а вместо лица – оттуда выглядывает вроде какая-то кровяная котлета…
Впрочем, некоторые их вопросы изумляют. Вдруг с какой-то стати намертво привязались к тринадцатой главе Апокалипсиса. Якобы, по донесению информатора, в одной из своих проповедей цитировал оттуда.
– Да или нет?
– Если и так, то, что в этом такого?
– Да или нет?
– Да что вам далась эта глава?
– Да или нет?
– Ну, да. Да, – отвечаю.
Всё равно изо дня в день продолжают допытываться про тринадцатую главу, как будто это я ее написал.
А то вдруг принимаются расспрашивать о тонкостях изобразительного искусства, которое я когда-то изучал и занимался. Потом переводят разговор на ту картину, для которой я был моделью молодого монаха, которую рисовал мой приятель по училищу и которую даже повесили в государственной галерее. Откуда им про это известно?