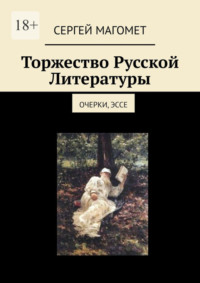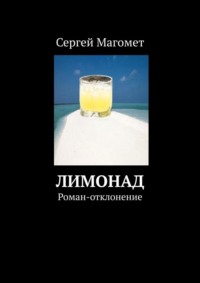Полная версия
Русские апостолы. роман
Что и говорить, для нас это просто решительный переворот в жизни – для бывшего школьного учителя и гимназистки. Забот полон рот. Форменные робинзоны. Нужно и сбрую содержать в порядке, и дровишками запастись. То и дело браться за лопату, серп, вилы. Ворошить сено, копать навоз. А тут еще – эти молчаливые, пристальные взгляды из-за плетня!
В первый год нам ни единого разу не предложили помощи. Даже когда корова телилась. Зато всем любопытно: как мы, справляемся ли?
А справляемся мы, по-моему, очень даже и не плохо.
Это, понятно, не считая моих обязанностей, как священнослужителя. В общем, днем и ночью кручусь-верчусь. Благо еще, «легкость ног».
Вот, только начал окучивать картошку, как прибегает мужик: у него теща помирает, нужно соборовать. Понятно, тут же бросаю картошку, отставляю в сторону вилы, облачаюсь, чтобы идти за мужиком.
– Только уговор, – строго говорю мужику, – будем за твою тещу молиться вместе. Ты да я.
Мужик прищуривается. Думает, я шучу.
– Нет, батюшка!
– Да.
– Да нет же!
– Да.
– Ох, помилуйте, батюшка! Христом Богом! – лепечет мужик. – Я уж лучше за вас тут пока картошку перекопаю…
– Раз так, – говорю ему, – и я за тебя твою картошку потом перекопаю. А теперь пошли со мной, будем вместе молиться.
Мужик прыскает от смеха, а потом приседает от хохота. Что за чудесный батюшка, написано у него на физиономии. Через пять минут, однако, мы вместе бежим к болящей и горячо молимся вместе у одра.
В другой раз, среди ночи, бьется в окошко взъерошенный мужик, весь трясется со страху, у него, дескать, жена рожает, и он требует, чтоб я немедленно поднимался с постели, шел в церковь молиться за благополучное разрешение от бремени.
– Хорошо, – с улыбкой говорю мужику. – Только уговор: пока буду молиться за твою жену и за тебя, ты отправишься спать и заснешь сном праведника…
Мужик, забыв про свой страх, хохочет. Чему я ужасно рад: бедняга чуть не помер от своих волнений.
С первого дня я завел такой порядок: начинать утреню в четыре часа утра. Слишком рано, говорят мне, народ не будет ходить. Ну и что, отвечаю, кому надо придет и в четыре утра. К тому же служу я не для людей, а для Господа. Не я заводил сей устав, и не мне его менять.
Такое мое объяснение сочли забавным. Я не против. Главное, теперь все привыкли, и служба идет как положено.
Вообще-то, по страшной бедности, чтобы не входить в лишние расходы, крестьяне стараются обращаться к батюшке как можно реже. Поэтому с бедняков за требы я не беру ни копейки. Такое мое правило. Впрочем, они тут почти поголовно бедняки.
Самая громадная для меня радость, что теперь ко мне ходят совершенно без всякого смущения. Что может быть приятнее?
А тут еще моя женушка меня веселит. Ворчит, что мужики повадились обращаться ко мне за любой ерундой, а самые наглые еще и пользуются моей добротой, чтобы выманить у меня что-нибудь. Мол, считают меня дурачиной-простофилей. Скоро весь дом растащат.
– Ты ведь отдаешь всё, кто чего не попросит! В долг ли, нет.
– Полно, любимая! – увещеваю я ее с улыбкой. – Мы с тобой, слава Богу, люди не нищие. К тому же иногда мне возвращают. А общественная собственность – это святое.
Ей, однако, не до шуток.
– Помнишь того наглеца, у него всегда такая хитрая физиономия? – вздыхает и не унимается она. – Сколько уж он раз выпрашивал у тебя денег, хотя бы несколько копеек. Мол, семья сидит без хлеба. Ты всегда даешь. Он тебя точно за простофилю считает. Даже однажды спросил, как же ты сам отдаешь последнее. А ты удивленно ответил, что так, видно, Бог определил: кому пироги да пышки, а кому синяки да шишки. Честное слово, он посмотрел на тебя, как на дурачка!
– Полно, любимая, полно, – успокаиваю я ее.
Если бы она только знала, что этот человек пришел ко мне в слезах, принес обратно все деньги, даже с лишком, каялся и просил прощения!.. Но что еще удивительнее: даже не мог объяснить этого своего поступка. А уж как он обрадовался, когда я сказал, что не возьму деньги, а чтобы он разнес их по самым бедным дворам.
Но и это еще не всё. Давеча, на исповеди он признался, как всё было на самом деле. Иисус пришел к нему и говорил с ним.
– Теперь он совершенно переменился, – уверил я жену. – Помогает мне в церкви, и я сделал его алтарником. Его Андреем зовут.
Между тем войне-горю конца не видно, и нищета повсюду только свирепеет. Вот, в нашем селе уже целых три солдатские вдовы. Посмотришь на них, так сердце обрывается от жалости. Поэтому как подходит сенокос и пахота, первым делом иду помогать вдовой соседке. Односельчане ухмыляются, кто недоуменно-насмешливо, кто с похабным коленцем. Ну и пусть их. Мне, священнику, уж не привыкать. Всё лучше, чем равнодушие. Только улыбаюсь в ответ. Да и своим ребятишкам приказываю ходить помогать вдове.
Вот беда, мы сами-то дошли до самой жалкой нищеты. А впереди никакого просвета. Однажды дочка нашла посреди улицы маленькую серебряную монетку, принесла домой.
– Бог послал нам, – тут же говорит жена.
«Бог»! Как бы не так. Ясно как пить дать.
– Разве ты обронила на улице эту монетку, доченька? – спрашиваю я дитя, а сам поглядываю на жену. – Что-то уж больно подозрительный этот случай, это еще мягко сказать, чтобы в нашем глухом селе кто-то обронил серебряную монету. У нас люди такие бедняки, что каждую копеечку бережно прячут… Поэтому, – говорю я дочке, – пойди, милая, и положи ее точно на то место, где она лежала!
Не прошло и нескольких минут, как девочка прибегает домой и, запыхавшись, рассказывает, что, едва она сделала, как я сказал, появилась какая-то женщина и стала высматривать что-то на дороге, словно что-то обронила.
– То-то же! – восклицаю я.
Дальше больше. Прошло еще некоторое время, и ко мне под исповедь является некая женщина и начинает каяться, что пробовала заниматься ворожбой. Тяжело заболев, по совету одной ворожеи, она заговорила особым заговором серебряную монетку и положила прямо посреди дороги, с тем, чтобы на того, кто подберет заговоренную монетку, перешла ее хвороба.
– Слава Богу, вовремя одумалась, побежала обратно, нашла и забрала проклятую монетку…
Поскольку ворожба не состоялась до конца, я решаю наложить на женщину только легкую епитимью.
Через некоторое время она снова приходит ко мне и сообщает, что совершенно выздоровела. Кстати, выясняется, что она отлично печет хлеб, и зовут ее Шура. Теперь раба Божия Александра подвизалась у меня при храме делать просфоры для Причастия. И лучшей просвирни, пожалуй, во всем уезде не сыскать.
Вот так, жизнь течет помаленьку. То одно, то другое. Дел всегда по горло. По большей части, глупых, мелких. С другой стороны, откуда нам знать: лишь Господь ведает, что в результате окажется мелочью, а что с большими последствиями.
Незадолго до всеобщих потрясений и разгона прежних властей, я заручился поддержкой начальства и добился закрытия местного питейного заведения. Пьянство сразу поубавилось. Но один из местных хулиганов, по имени Павел, пообещал меня убить. Думаю, это не простая угроза.
Он приходит в храм и прямо говорит:
– Убью.
Я пытаюсь поговорить с ним, отговорить, вразумить. Нельзя же, в самом деле, губить себя, замышляя душегубство. Но взгляд у него, жуткий-прежуткий, пустой, как у покойника.
Потом я сам хочу его найти, поговорить еще раз, но он вдруг куда-то пропал.
Как подумаешь, так страшно: монархия рухнула. Его Императорское Величество соизволил отречься в пользу брата, который, судя по всему, вовсе и желает принимать царскую корону. И война не прекратилась.
Какие-то странные, темные личности собирают странное правительство. Говорят, временное и временно. Вот беда! До нашей глуши почти не доходит никаких новостей. Но от тех, что доходят, мороз по коже. Теперь совершенно ясно: кругом одно безвластие. Удивительно, что многие этому даже рады. Я, конечно, не из их числа. Впрочем, их радость очень скоро сменяется гнетущей неопределенностью. Потом подкрадывается страх.
Что тут непонятного, вслед за безвластием надо ждать власти худших из худших.
Так и есть: в наших местах объявилась какая-то шайка бандитов. Потом еще одна. И еще. Конечно, они зовут себя не шайками, а отрядами, эскадронами, армиями.
И вот, извольте любить и жаловать, воцаряется долгожданная новая власть. И кто бы, вы думали, первый милиционер у нас в селе? Он самый – злоумышленник Павел. Носит черную кожанку. В рыжей как подосиновик кобуре наган. Теперь куражится-бахвалится. Теперь, говорит, могу гулять и пить – сколько душа пожелает. Но во взгляде всё та же мстительная, жуткая жуть.
– Скоро, батюшка, жди, – кидает мне.
К счастью, его назначают главным милиционером сразу над дюжиной-другой окрестных сел, поселков и станций, вот уж многохлопотная должность, так что мы очень надеемся, что до наших палестин ему недосуг добираться.
Но сегодня мне сказали, что он приезжает. По мою душу. «Забрать». Что сие значит, кажется, понятно. Тем не менее, я решаю, что поеду с ним… Вот только случается совершенно непредвиденное. Не желая меня выдавать, сельчане взбунтовались, налетели на него и убили. А убив, разбежались кто куда.
Некоторое время кажется, что до убитого милиционера Павла властям нет никакого дела и что обойдется без последствий. Тишина. Я продолжаю служить в нашем сельском храме. Но людей приходит всё меньше и меньше. Многие вообще уезжают, и о них тоже ни слуха, ни духа. Не обойдется. Вроде бы, к нам направлен карательный отряд. Когда еще приедет. Мне советуют тоже поскорее куда-нибудь уехать на время. Куда ж я поеду от моих дорогих? Я, конечно, с места не тронусь.
Отряд прибыл. Однако по причине малочисленности не спешит входить в село. Разбили лагерь прямо за дальней околицей. По-видимому, не рискуют вступать в бой с превосходящими силами противника. А у нас-то даже и ополчения нет.
Отряд, говорят, странный. Из русских только командир и двое-трое солдат. Остальные конопатые да рябые латыши. А может, финны или иные чухонцы. Но по виду в десять раз страшнее убитого милиционера Павла.
Двое из них, из русских, все же решаются отправиться на разведку. Видят в поле какой-то крестьянин-бедняк налаживает борону и, судя по всему, поскольку лошади нигде не видно, сам примеривается впрячься в борону. Что-что, а с бедняками они умеют найти общий язык. Один из карателей, видимо, сам из крестьян, впрягает в борону свою лошадку и начинает боронить. А тем временем его товарищ заводит задушевную беседу с крестьянином и вызнает у того всё, что требоуется: что ополчения у нас никакого, и ружей нету.
И вот набег. Входят в село и тут же хватают несколько крестьян, которых называют убийцами милиционера Павла. Очевидно, что никакого суда-следствия не будет. Как им самим не жутко хватать и убивать всякого, кто попался на пути?
Пока не убили невинных, я иду прямо к командиру, в их штаб и объясняю, что если кого и следует арестовывать, так в первую очередь меня. Но командир приказывает выгнать меня вон. Тогда я становлюсь на колени перед крыльцом и молюсь. Уже почти стемнело.
Ночью слышны ружейные залпы.
На следующий день рано утром, когда прохожу по селу, меня останавливают два солдата.
– Давай убьем этого священника, товарищ, – говорит один другому.
– Я сегодня добрый, товарищ. Может, в следующий раз, – отвечает другой и показывает мне ружьем, чтобы я проходил.
Немного погодя, замечаю в канаве у дороги мертвые тела. Убитых ночью запрещено хоронить. Так и лежат. У одного из них свинья уже отъела полплеча. Захлебываясь от рвоты, сгибаюсь в три погибели, хватаюсь за горло и сердце. Отойдя в сторону и отдышавшись, ковыляю домой. Но, не дойдя до дома, снова решаю повернуть к штабу.
Командир сам выходит на крыльцо. В ответ на мою просьбу меня арестовать, а не губить невинные души, только усмехается:
– Нет. Вы, батюшка, слишком уважаемая персона, чтоб вас кончать. Народ вас любит. Потешный вы. Впрочем, в свое время, может быть.
Потом отряд уходит из села.
Некоторое время ничего не происходит. Только однажды на улице с песнями и криками появляются несколько человек. Говорят, «делегация» из города. Совершенно нагие. То есть, совершенно, чем мать родила. Мужчины и женщины. Но с красными флагами и плакатами. Да еще зачем-то остриженные наголо. Вроде, не пьяные. Одержимые бесом, что ли.
Кричат обомлевшим крестьянам:
– Здравствуйте, товарищи!
Целый день эта бесовская «делегация» ходит в таком виде по селу, выкрикивает похабщину, поносит самыми скверными словами Иисуса Христа, Святой Дух, всё-всё. На плакатах у них лозунги: «Долой стыд!» И ну драть горло. Наши сельчане до того запуганы, что не решаются прогнать срамников-похабников вон из села, только прячутся по домам и покрепче запирают запоры. Наоравшись и нагулявшись, голые сами собой расходятся, исчезают, как страшный сон.
Что ж, я думаю, «в свое время» это уж скоро.
Однажды утром в село снова входит отряд. Две дюжины тех же свирепых конопатых латышей. Командир объявляет, что на этот раз намерен полностью очистить село от враждебного элемента. У них всё проще некуда. Сгоняют крестьян на лужайку перед центральной избой-штабом. Потом командир начинает произносить «революционную речь». Речь ужасно длинная и бессмысленная. Единственно, что можно понять, командир призывает местных жителей записываться в отряд самообороны. Мол, те, кто не пожелает записываться, и будут считаться «враждебным элементом». Перепуганные крестьяне выстраиваются в длинную очередь, и запись начинается. К полудню списки составлены. Кстати, выясняется, что единственный «враждебный элемент» в селе, не записавшиеся – это я и мой алтарник Андрей.
Нас обоих тут же уводят и сажают под замок. Так что никто даже и не удивился. Рядом в избе латыши пьянствуют. К вечеру до того упиваются, что падают замертво – кто в избе, кто поперек дороги, кто на лугу. За исключением самого командира и еще двух латышей. Командир, с трудом ворочая языком, спрашивает Андрея, не передумал ли он. А тот, бедняга, даже не понимает, что он него хотят. Я тихонько толкаю его локтем, и он говорит:
– Так точно, передумал.
– Вот и молодец, – кивает командир.
Андрей улыбается. Я тоже улыбаюсь. Андрей готов беспрекословно подписать нужную бумагу. Командир опять улыбается. Андрей улыбается. Я улыбаюсь.
– Молодец, – снова говорит командир. Потом вдруг спохватывается: – А в Бога ты веришь или нет?
– Конечно, верю, – не колеблясь, отвечает Андрей.
– Ты что, дурака передо мной ломаешь?
– Никак нет.
И тот и другой продолжают улыбаться. Но я уж не улыбаюсь. Командир кивает латышам, чтобы те вывели парня из избы и поучили уму-разуму. Через окошко мне смутно видно, что во дворе перед воротами один из латышей поднимает винтовку и как будто легонько ударяет Андрея прикладом в затылок. Совсем легонько. Потом ударяет другой латыш. Тоже легонько. Так они легонько бьют его, пока не забивают насмерть. Всё это время я молюсь, не переставая.
– Вот вам, батюшка! Полюбуйтесь, что вы наделали, – со злостью ворчит командир, показывая глазами в окошко.
Я молчу.
– Ну что, – продолжает он едва слышным шепотом, – будете остригать волосы или как?
Но я молчу. Я-то хорошо помню, как мы с отцом Николаем порешили ни за что не остригать волосы. Наверно, помимо моей воли, мои губы вздрагивают от улыбки.
– Ладно, ладно, потом решим, что с тобой делать, – говорит командир.
Так до поздней ночи и просидел в сарае под замком. Потом замок отпирают. Два вооруженных ополченца, мои односельчане, выводят меня на улицу, говорят, что на телеге отвезут домой. Мол, так начальник распорядился.
В окошке торчит физиономия пьяного командира, оловянными зенками наблюдавшего за нами. Усаживают меня в телегу, рядом тело бедного Андрея, и мы трогаемся в путь. Что ж, всё понятно. Телега скрипит, переваливается из стороны в сторону. Скоро мы выезжаем из села.
– Вот, батюшка, везем вас в лес расстреливать, – говорят мне. – Ужасно прямо вас жаль. Вы нас и доброму учили, и помогали. Нет, не можем вас убить. Да и не хотим. Поэтому стрельнем поверх головы, а вы сразу падайте после залпа, как будто вас убили…
– Еще чего, – отвечаю. – Нет, вы делайте, как ваш командир велел.
Вокруг уже темно, хоть глаз коли. Ни луны, ни звезд. Однако и эта темень вдруг засветилась, замерцала, словно изнутри.
Когда приехали к месту расстрела, Андрея вытащили из телеги и отволокли в овраг. Меня поставили на край оврага и стали расстреливать. И всё мимо.
Видя, что я стою и не падаю, один из них подбежал ко мне и в отчаянии стукнул меня прикладом в висок. Я упал, скатился в овраг. Спотыкаясь от страха, они в полной темноте выстрелили в моем направлении несколько раз, просто наугад. Одна пуля попала мне в правое плечо, а другая в левый бок. Странно, я вовсе не чувствую никакой боли. И как будто нет ни времени, ни окружающего пространства. Хотя я несомненно жив и могу молиться.
На следующий день, к полудню они приходят, чтобы прикопать трупы, и видят, что я сижу на пенечке.
– А батюшка-то, гляди, живой! – весело кричит один. – Не иначе как воскрес. Вот так чудеса!
Всегда я их смешил. Они и сейчас хохочут.
– Как же так, батюшка? Вы не умерли? – говорят мне. – Не можем же мы вас живого прикапывать. Увезем-ка мы вас от греха подальше. Может, как-нибудь оно и пронесет…
Пока прикапывают Андрея, я тихо его отпеваю.
Потом меня снова сажают в телегу, и телега трогается.
– Ну, батюшка, куда ж, скажите, вас вести, где спрятать?
– Некуда, чада. Некуда мне прятаться.
В общем, не остается ничего другого, как повернуть обратно в наше село. По дороге они то и дело останавливаются, стучат в каждый дом, спрашивают, может, кто согласится припрятать меня, пока раны не заживут. Но никто не осмеливается меня пустить: такой сковал их ледяной страх, который напустил на них командир со своими латышами. Потом одна женщина вынесла мне попить парного молока, меня ссадили с телеги, и я побрел домой на своих ногах.
То-то мне радость еще разок повидаться с моей семьей! Всех по очереди поцеловал, перекрестил. Каждого благословил. У каждого попросил прощения, Христа ради.
К несчастью, уже вечером в штабе узнают, что мне удалось избежать смерти. Командир послал сказать, чтобы я явился в штаб. Но послал не солдата, а случайную старуху.
– За мной нет никакой вины, – объясняю я ей. – А то, что я чудесным образом выжил, так это не преступление. Никуда я не пойду, отказываюсь. Так и передай. К тому ж, куда я пойду, на ночь глядя…
– Ну смотрите, батюшка, – недовольно и даже с угрозой в голосе ворчит старуха и уходит.
Удивленно смотрю ей вслед. Как можно ворчать в такой чудесный, праздничный день?
Но теперь вот еще и жену начинают одолевать страхи. В конце концов, отпускаю ее со старшей дочкой сходить в штаб, может, удастся узнать у начальства, как и что. Остаюсь дома один с маленьким сынишкой.
А еще через некоторое время в дверь громко стучат. На пороге латыши с оружием, всей толпой возбужденно заваливают в дом.
– Давай, собирайся! Начальник ждет. Хочет посмотреть на святого, воскресшего после расстрела.
У них простые, крестьянские лица. На них написано почти детское любопытство. Того и гляди, начнут совать пальцы в мои кровоточащие раны.
– Не могу идти, – говорю. – Не могу оставить дома маленького одного.
– Давай, на выход! – кричат они.
Они уже разбрелись по дому, роются в вещах, хватают всё, что приглянется: в особенности, для забавы, подсвечники и большие свечи.
Я быстро, вполголоса шепчу «Отче наш» и тогда выхожу.
Ах, какой красивый, удивительно красивый на улице вечер! Чудо да и только! Оказывается, только что выпал снег, и всё вокруг накрыто им, как священным покровом, чистейшей тонкой белизны. Невероятно ранний снег! А на улице перед домом, встречая, солдаты уж выстроились в два ряда с зажженными церковными свечами. Хотели покуражиться, а получилась настоящая, торжественная процессия. Они с удивлением смотрят друг на друга. Свечи полыхают в ночи золотым светом, и у всех от него лица словно тоже стали позолочены и сияют. Золотые бороды, усы, волосы, брови. И поют заупокойный псалом – еще живому мне.
В таком сказочном сопровождении я двинулся по улице. Но ведут меня не к штабной избе, а за околицу села. Мы идем к лесу. Мне говорят, что меня будут казнить во второй раз. Так вот зачем столько горящих свечей! Понимаю. Но светло вокруг даже не от зажженных свечей, а он этого белеющего снежного покрова, который, как мне кажется, с каждой минутой сияет всё ярче и сильнее.
– Если воскреснете и в другой раз, мы вас помилуем, батюшка, – сообщают мне.
– Что ж, тогда мне нужно помолиться, чада.
– Хорошо. Только быстро.
Я становлюсь на колени и молюсь. Об этом мире я всё знаю. И теперь лишь в одном шаге от того мира, о котором мечтал всю свою жизнь. Как просто! Однако на глаза мне наворачиваются слезы. Потому что очень грустно знать также и судьбу тех, кто вокруг меня. Если они сию же минуту не одумаются и не покаются, уже завтра, возвращаясь домой, попадут в засаду и будут перебиты. Погибнут, как проклятые, до единого человека. А потом… Я утираю и утираю слезы. Что я знаю про иной, лучший мир? Что бы я сейчас ни сказал, меня не станут слушать. И всё-таки это моя пастырская обязанность – не оставить несчастных в неведении. Я бы отдал всё на свете, даже самые последние мгновения моей жизни, только бы они спаслись.
Поднявшись на ноги, начинаю рассказывать, что их ждет. Обличаю и молюсь одновременно. Время пришло. Они бросаются торопливо и с остервенением бить меня по лицу. Потом стреляют. Я снова падаю на колени. Просто молюсь и молюсь. Поднимаю правую руку, чтобы перекреститься. Один из них подбегает ко мне со штыком на перевес и, чтобы не дать мне перекреститься, пробивает руку у плеча, потом у локтя. Но я поддерживаю раненую руку левой рукой и продолжаю креститься. Как он на меня смотрит! Какой знакомый взгляд! Потом тычет штыком в левую руку и страшным голосом кричит своим товарищам:
– Я распял его, я распял его!
Но мне не больно и не страшно. Разве что чуть-чуть. На душе чудесный покой. Уже в следующее мгновение надо мной взлетает и опускается сверкающая сабля, одним ударом срубая, наверно, ползатылка. Я стою на коленях и молюсь. Я живой.
– Эй, только гляньте! Какой сильный поп! В жизни такого не видал! Умрет он когда-нибудь?!
Вокруг он не выдерживает и испускает вопль, полный священного ужаса.
Зачем? Не надо! Бедное, бедное чадо! Он ведь не знает, что это такое. А я знаю.
2
Как, когда же я обо всем об этом узнал? Нет, не помню, не могу сказать. Просто знал и всё. Наверное, еще в детстве мама таинственно, шепотом рассказывала перед сном. Только она и я. Поэтому как само собой разумеющееся. И я молчок. Дело семейное. А может, и правда приснилось во сне? Никогда не знаешь наверняка. Оно и к лучшему. По крайней мере, известных случаях. Вот и всё.
Да ведь и вокруг – за каждой дверью, в каждой семье свои тайны. Чего только на свете не бывает! То и дело слышишь: с кем-то случилось что-то в этом духе, чудесное, непонятное. То и дело вполголоса люди передают из уст в уста: «Вы мне, конечно, не поверите!» – «Я бы и не поверил, если бы у нас не произошло то же самое…» С другом или родственником. Детьми или женой. В каждой семье ждут, что у них родится Спаситель. Так что, конечно, кроме нас, бесчисленное множество других матерей, отцов-отчимов, добрых родственников, как бы их не звали… Против некоторых явных знаков и знамений не поспоришь. Каждый, по-своему, прав. Вот, повсюду только и слышится: «Он здесь!», «Он там!» И уже совершенно невозможно отличить правду от вымысла, к тому же, подкрепленного множеством повседневных чудес, даже виденных собственными глазами.
Жаль, я никогда не видел отца. Иногда я ужасно скучаю по нему. Только мама знает, как всё началось. Когда я спрашиваю об этом, она лишь непонятно вздыхает и… молчит. Как будто это только ее воспоминание. Но, вот, кажется, она улыбается, едва заметно. Счастливо. Ее глаза, лицо, вся она – освещается радостью. Так и есть. Это передается и мне. Я чувствую, как от радости по коже бегут мурашки.
Это главная, самая удивительная тайна моей жизни. Впрочем, иногда кажется, что тут нет никакой тайны. Всё просто. И я всю жизнь об этом знал.
Вот удивительно, архангел явился маминой двоюродной сестре раньше, чем маме. От него сестра узнала о своей будущей беременности. Как и о том, что родит замечательного ребенка. Предтечу или предвестника. Под великим секретом. А как же иначе. Ведь сестра супруга пожилого священника, и сама уж не молодая. До последнего времени супруги так хотели ребенка, так старались – неутомимо, страстно, словно молодожены. И вот ей удалось зачать. Почти как библейской Саре. Сначала оба никак не могли поверить. За свое неверие супруг вдруг лишился языка. Дар речи вернулся лишь через некоторое время, когда ребенок родился и был наречен. А мама сразу поверила всему, что рассказала сестра. Точно так же без колебаний поверила, когда к ней самой явился архангел. Даже от крошечного изъяна или нечистоты душа теряет совершенство. Так что каждый и судит об истинности того или иного случая по себе.