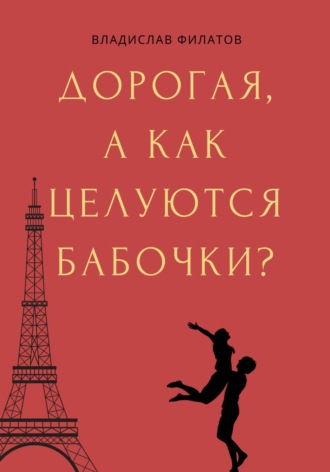 полная версия
полная версияДорогая, а как целуются бабочки?
И вот я, Саня, Володя Янаев и еще к нам прибился некто Трошин Анатолий с четвертого, едем, как формулировали в старь, на воды. И для начала Сашкина комсомолка предлагает нам общагу. Дескать, перекантуетесь, день-другой, с городом познакомитесь, а потом – в лагерь.
Общага нас встретила жутчайшей , но не идентифицируемой вонищей. Тухлятиной какой-то несет, а что протухло понять не можем. Ну и интересуемся у бабушки – вахтерши. Дескать, что за амбрэ?
Да это вьетнамцы селедку с капустой тушат.
– Свежую?
– В том и дело, что нет. И селедка соленая, и капуста квашеная. Они тут у нас учатся. На педагогов. И стипендию получают повышенную. Но почти всю шлют своим во Вьетнам. Помогают.
Сидим дальше. Ждем ключи от своей обители. Ключи у какого-то Никанорыча, ну, видимо, коменданта, а он вышел «незнамо куда». Ждем – звонок телефона. Бабка по коридору кричит. Прибегает вьетнамец. Хватает трубку: микрофон – к уху, наушник – ко рту и начинает верещать.
Я говорю ему: «Трубу переверни». Он гляделками на меня хлоп –хлоп, и дальше верещать; микрофон – к уху, наушник – ко рту.
– Не обращйте внимания, – шепчет бабка, – они завсегда так ее берут. – И только вьетнамец – в коридор, полотенце вафельное достает и трубку обтирать начинает.
– Ну всю оплюют, – поясняет нам свои действия. –А вот и Никанорыч с ключами.
В комнате, где мы принуждены были коротать ночь, по всему тоже жили вьетнамцы. Селедочный дух успел уже выветриться, но над каждой из четырех коек висел портрет дядюшки Хо и распорядок дня хозяина койки, где на французском (совсем еще недавно Вьетнам был колонией) все было расписано даже не по часам – по минутам. Даже чистка зубов не была забыта.
Ну и только мы разнуздались, в проеме двери возникло крошечное создание и тонюсеньки голосом, но на «чистом» русcком языке вопросило:
– Люаньдма?
– Чего? –не поняли дружно мы.
– Люаньдма?
Раз пять мы заставляли девчонку повторять вопрос, пока до нас не дошло – посетительница спрашивает: нет ли дома девушки по имени Лю Ань.
– Нет – облегченно выдохнули четыре глотки. Гостья выпорхнула, Янай устремился вслед. Убегал за одной, вернулся с двумя. Усадил рядком за стол и: – Щас спою, -говорит. – Сказание о китайском юноше.
А надо сказать, что сказание это такое же длинное, как волжская кругосветка, в процессе которой оное и было сочинено Янаевым и Кузиным под собственный гитарный аккомпанемент. Впервые публично исполнено на одной из студвесен, и речь там шла о том, как этот самый юноша, живущий в деревне на берегу большой и мутной реки Янцзы, ежегодно оправлялся в город на заработки.
– И в первый год, – пел Янай, – поехал юноша на заработки в город и вернулся в деревню на велосипеде. И во второй год оправился юноша на заработки в город и вернулся на мотоцикле. И в третий год отправился юноша на заработки в город и вернулся на автомобиле…
Но мало того, что сказание длинное. Оно еще и двух языках поется. Сначала – на русском, а потом – на «китайском». И вот «китайского» выдержать не возможно. Мы хором под мелодию воспроизводим звуки, как нам казалось, очень похожие на китайский язык, а ключевые слова произносим по-русски:
«Хиня, хиня, хиня ха, хиня, хиня ха
Велосипед
Хиня, хиня, хиня ха, хиня, хиня ха
мотоцикл
Хиня, хиня, хиня ха, хиня, хиня ха
автомобиль»
Мы лежим на кроватях, еле сдерживая себя от смеха, а гостьи абсолютно серьезны, сидят за столом и не понимают, почему нам так весело.
– А теперь, – продолжает представление Янай, – ответная песня. – Просим, вас, девочки.
Те мотают головами. Дескать, нет. Дескать, смущаемся. Янаев – на колени. Вскочили в ужасе и в один голос – «Лесная песня».
…?
Эта их лесная песня оказалась даже длинней, чем наша «китайская» баллада. Вьетнамки пели, стоя перед столом. И лились звуки непонятные нам, схожие с нашей абракадаброй на «китайском». Мы уже начали скучать от однообразия, как вдруг прозвучало знакомое «ку-ку». Это пела кукушка во вьетнамских джунглях. И именно от этого знакомого «ку-ку» мы уже не просто лежали – мы умирали, сдерживая хохот, вспоминая нашу «китайскую» балладу. Но не станешь же портить международные отношения. И кто-то, борясь с хохотом, вцепился зубами мне в задницу, кто-то всю руку себе искусал. Я запихивал в рот подушку, но когда почувствовал, что не помогает, выскочил в коридор. Ну, вроде как по надобности. Вскоре ко мне присоединился Саня. Потом из комнаты вылетел Анатолий. Наконец, ее покинули и наши гостьи. Мы не рассчитывали обнаружить Янаева в живых. И расчеты наши оказались верны. Захлебнувшийся хохотом Янай довольно долго не подавал никаких признаков жизни. Но очухавшись, часов до трех не давал нам спать, требуя похвалы за доставленное удовольствие.
Наступило серое зимнее утро.
– Быть в Пятигорске и не почтить память Михаила Юрьевича? Я полагаю это неправильным, – предупредил Янаев, закончив бритье и начал сдирать с нас простыни.
Мы хотели его сразу убить. Но, подумав, решили казнь отложить до момента возвращения с легендарной вершины.
Ловим тачку. За штурвалом грузин. Минут пять едем молча. Потом Янай говорит.
– Генацвале, если не возражаешь, мы споем тебе грузинскую песню.
– Пой, – соглашается генацвале.
– Однажды русский генерал вдоль по Кавказу проезжал
И грузинскую он песню по – мингрельски напевал, – заводит Янаев.
– Тая, тая, тая, тая, та, – подхватываем мы.
И так куплетов десять.
– Ну, – интересуется Вовка у грузина. – Как песня?
– Шум есть, а мелодии нету, – делится тот впечатлением и тормозит: приехали.
Есть мнение, что Лермонтов дрался с Мартыновым совсем не у подножия Машука, где в 1915-м установили созданный Микешиным обелиск. Что дуэль была у Перкальской скалы. Но мы тогда ничего этого не знали. И грузин, видимо, не знал. Так что сгрузил нас у Машука, где мы сначала читали из Лермонтова, а потом решили реконструировать трагические события, и сначала долго спорили, кому из нас быть поэтом, а кому его убийцей, а потом тянули спички, поручив распределение ролей жребию. Грузин наблюдал за нами из своей видавшей виды тачки, и, судя по скепсису на его лице, и наша интермедия веса в его глазах нам не прибавила. Зато в лагере мы просто купались в лучах славы.
Лагерь был разбит в горах. Недалеко от Домбая. Жить предстояло в деревянных домах с печным отоплением, и первое время мы печку топили исправно, а потом бросили. Чересчур хлопотно, да не больно надо. Минус пять от силы. Шапки –ушанки на голову, под одеяло, и распрекрасный сон. Да мы вообще тогда на бессонницу не жаловались. Молодые были, здоровые. На недостаток женского внимания тоже. И по тем же самым причинам. Но был в группе отдыхающих студентов некто Боря с музыкального факультета Краснодарского пединститута. Нет, спал и он прекрасно на горном воздухе, но с девушками у парня не получалось никак. В Краснодаре не получалось. И он, по собственному признанию, сильно рассчитывал на Домбай. А главную ставку делал на свой вокальный дар. Певец, в самом деле, готовый. Ну, просто вылитый Эдуард Хиль. И пел из репертуара Хиля. У нас же вечерами концерты устраивали. И мы, разумеется, в них участвовали. Ну и Боря. И коронным бориным номером была знаменитая тогда песенка «Как хорошо быть генералом». А мы пели всякую белиберду, вроде той, которой Минай соблазнял вьетнамских девчонок. Но почему – то именно это работало. В домике у нас вечно толокся народ. И не только поклонницы, но и поклонники. Последних, подозреваю, привлекали не столько наши домашние выступления, сколько реки вина. Нет, буквально реки. Стоило сухонькое в местном продмаге 70 копеек, мы ходили к этому нашему водопою с дорожной сумкой и пока народ всю ее не опустошал, спать не расходился. А в лагере по утрам – физзарядка. Всем гуртом и на свежем воздухе. Ну мы раз не вышли, не вышли – два. Директор лагеря к нам с визитом. А у нас барда-а-ак…
– Что же вы на зарядку не ходите? И бардак у вас.
Шура – ему:
– Щас уберем, – а сам рукой под койкой шарит. Нащупал бутылку, горлышко обдул, набрал содержимого в рот и начал подметать, опрыскивая пол вином.
– С чем это вы подметаете? – задал риторический вопрос директор.
– Сухое. А больше нечем. Не верите? Убедитесь. – И стакан ему наливает. Тот – хлоп.
–В самом деле – вино. Но все-таки так ребята нельзя: беспорядок в домике. И на зарядку не ходите.
Саня ему еще стакан. Я подключаюсь:
– Ну и вы нас поймите, товарищ директор. Сессия все соки выжала. Ну, какая может быть физзарядка.
– Ну, ладно-ладно. Но чтобы без баловства. – И третий стакан – хлоп.
Больше проблем с дирекцией у нас не было. А что касается девочек. То они изначально не чаяли в нас души. И не только они. Местная районная газета поместила восторженный отклик на наши выступления в рубрике «Таланты земли советской». Про Борю это периодическое издание даже не упомянуло.
– Да что же это такое! – возмущался Борис. – Поете вы погано, а зебры (он девчонок зебрами звал, а мужиков филинами) табунами скачут. И журналистка эта их местная чуть не захлебывается восторгом. А обо мне эта зебра ни строчки. Да еще врала весь вечер, что ей в номер писать, а сама всю ночь тут пила с вами. Почему не со мной? Почему они все от меня шарахаются?
– Боря, – приобнял «одинокое серце» Санька, – ты не верно, друг, действуешь.
– Почему?
– А потому что не в том направлении мыслишь. Давай рассуждать вместе. Девчонка она ведь чего больше всего в интересующем деле боится?
Боря завис.
– Правильно, – продолжил, выдержав паузу Саня. – Забеременеть. Поэтому, вот тебя Боря резиновое изделие №2. Зажимаешь в левой руке, подходишь к намеченной жертве, открываешь кулак и говоришь: « Не бойся, ничего не будет» Ферштейн?
Боря схватил изделие и выскочил из «бунгало». Возвращается злой как черт.
– Что случилось, Боря?! – кинулись мы к нему.
– Да пошли вы…филины.
Хлопнул стакан вина, и только после этого мы узнали, что с Борей произошло.
– Че случилось, че случилось… А то, что показал я ей презерватив, сказал – не будет ниче. А она меня по морде – хлысть и вдоль забора рысью. Зебра!
***Вспоминая беззаботные студенческие годы, я незаметно для себя оказался у сашкиного дома.
Год мы с Саней не виделись. Звоню. Открывает и буквально с порога: « Володька, есть проблемы». И начинает повествование.
– Организовали мы, – повествует Санек, – вечеринку на Новый год. – А Славик Никодимов, ну ты знаешь, с филфака, решил шуткой юмора блеснуть и состряпал газетку, в которой увековечил всех нас в образе политического бюро путем замены голов.
– Стоп. Чьих голов?
– Ну, вырезал из плаката какого-то из Политбюро, поснимал у них головы, а на освободившиеся шеи наши приставил. Ну и понаписал еще чего-то про перспективы. Ну, Новый год же. Подводим итоги прошлого, строим планы на будущее. Ну, в этой его развязной манере.
– Ну и?
– Ну и кто-то сдал. Ну и нас всех начали тягать. Главное же были только свои. Ума не приложу, чьих грязных рук дело.
–Та-а-к. А почему проблемы у меня?
– Будут, Володя! Обязательно будут. Твоя ж голова там тоже есть. На месте головы Алексея Николаевича Косыгина.
– Моя голова? А я то сам при чем? Пока вы там черти че рисовали,безобразничали, я на КПП мерз. Я Родине служил, Саша.
– Ну, ты же вернулся. Наверняка, вызовут. Так уж дай нам какую надо характеристику. Как бывший президент клуба интернациональной дружбы. А? Ну там, комсомольцы, и все такое…
– Не дрейфь. Солдат ребенка не обидит. Но кто же все – таки – стукачок? Кто там был, кроме тебя и Никодимова.
Саня разводит руками, но в процессе жизни выясняется, что проблемы возникли не только, и скорее не столько из-за самиздата неугомонного Славика. По рукам этой нашей компании как раз в то самое время ходили «Крохотки» Солженицына. Запрещенные к публикации в Союзе и изданные во Франкфурте. И именно это то и привлекло внимание органов. Книжка была на тот момент у Славика. Потому к нему и пришли. Пришли за книжкой, а обнаружили еще и этот его монтаж. Ну и стали вызывать на беседы, всех, кого он в том монтаже своем засветил.
Меня не вызвали. И я начал думать о трудоустройстве. В принципе мог бы вернуться во французскую школу. В армию же я уходил из французской, и по закону они обязаны были меня принять в свое лоно по возвращении. Но я вспомнил, как неуютно мне было в лоне этом весь последний год. Вспомнил характеристику, которую директриса накатала для армейского начальства. Отвратная совершенно, не то что в армию – в тюрьму с такой не возьмут, а расстреляют на месте. Разумеется, я ее по прочтении выкинул. Порвал на мелкие клочки и – в ближайшую урну. В армию с удовольствием брали и без каких бы то ни было характеристик, поскольку служба в СА хоть и была согласно Конституции почетным долгом и священной обязанностью, но как-то народ не больно стремился.
Короче, в школу я не пошел. Взялся вести французский в строительном институте на 0,5 ставки, но маловато выходило по деньгам, а тут – звонок. Башмаков, один из моих вузовских преподавателей, а в тот момент еще и завкафедрой французского.
–Володя, не хочешь у нас поработать?
Мне дали группу начинающих. Я доработал свой фонетический курс, обогатив его целой системой придуманных во время дежурств на КПП упражнений, и стал ставить произношение в такие кратчайшие сроки, что даже самые отъявленные скептики из коллег начали смотреть на меня уважительно. Это был отличный стимул к тому, чтобы начать подготовку к сдаче кандидатского минимума. План же был. Аспирантура, загранкомандировка, а там…Но случилась весна. А она бывает, как вы наверняка знаете, еще и студенческая. И меня, ну наверное как самого молодого, назначили ответственным за подготовку. Я и не сопротивлялся. Мне нужна была безукоризненная характеристика. И я уже был ударником педагогического труда, и реноме общественника только бы прибавило характеристике блеску.
Так вот, я отвечаю за студвесну от преподавателей, а от студентов на эту работу ставят девушку по имени Ксения. Но мне ее представили как студентку-отличницу, активистку с набором ораторских, организаторских и артистических способностей.
Пятый курс. «Англичанка». Довольно высокая крашеная блондинка с миндалевидными глазами и очень ухоженными руками.
– А пальчики то пальчики! – восторгался Маяковский . Маяковский, целуя руку юной Ахматовой. Вот это наш случай. Знакомимся и приступаем к разработке сценария. И чувствую, девочка заинтересована. Девочка заинтересована, я свободен. Во всяком случае, физиологически. Но у меня, если вы помните, правило: по месту службы и учебы шашней не заводить. Но год воздержания! А тут что ни вечер – то с Ксюшей. Репетиция, народ весь на сцене, а мы вдвоем в полутемном зале. Заканчиваем поздно, и я, разумеется, ее провожаю. До Драматического театра. Она живет где-то неподалеку. Пока еще не знаю, где именно. Да и не стремлюсь узнать – случись на ее месте любая другая, я испытывал бы ровно то же томление. Ну и возникает желание напряжение снять. И чувствую, что она совсем не прочь мне помочь. И я решаю развить успех, но есть только одно место, где мы могли бы остаться вдвоем. Комната в коммуналке, принадлежащая моей троюродной сестре. Сестра замужем за одним нашим местным режиссером. Живут на привокзальной площади вместе с родителями Вали, в престижном доме, где проживает все железнодорожное начальство. А коммуналка в настоящий момент пуста. И предлагаю Ксении навестить сестренку.
Валя, Валечка, Валюша. Одних со мною лет, миниатюрная такая. Симпатия у нас с ней взаимная и большая, но муж ее на дух меня не переносит. Возможно, из – за этой симпатии и не переносит. Муж ее холоден. Вяло пожимает мне руку, с недовольной физиономией удаляется в свой кабинет. Валюшка греет чай, что весьма кстати, март, и довольно холодно. Греет чай, кормит нас пирожками…
На хату мы не пошли (Ксения вдруг засобиралась домой), но разгоряченные чаем долго целовались в Валюшкином подъезде. Я думал, что поцелуями дело и ограничится, и совсем уж было решил искать новый объект для снятия напряжения. Но девушка вдруг стала звать меня к себе. Подумал – созрела, соглашаюсь, и куда, вы думаете, она меня привела? В тот самый обкомовский дом.
– Это кто же у нас папа? – тоскливо думаю я.
Папа оказался корреспондентом газеты «Правды». Причем сразу по двум областям. Нашей и соседней.
Третий этаж. Прихожая небольшая, но гостиная – мяч гонять можно. Паркет. Обстановка при этом наискромнейшая. В прихожей – фанерный шкаф. Гостинная была приспособлена под рабочий кабинет отца и одновременно служила ему спальной комнатой. В комнате этой стоял его рабочий стол, два книжных шкафа из чешского гарнитура, два книжных шкафа советского производства 40х-50х годов, предположительно. И железная кровать с панцирной сеткой и шишечками. Другие две комнаты были мебелированы примерно так же скромно, главным атрибутом которых были железные кровати с панцирной сеткой.
Конечно, отец с его возможностями мог бы достать и более современную мебель. Но, вероятно, вещизм считался не главным смыслом жизни, а скромность в быту – достоинством настоящего коммуниста.
– Да, вроде бы – наши люди, – говорю я себе, но сердце тяжелое. Не люблю я знакомиться с родителями раньше времени. По опыту друзей, ты в этом случае вступаешь в неравный бой против целой семьи. А жениться я не хотел.
А люди действительно – наши. Мамаша милейшая. И папаша симпатичный. Книжки про мужественных людей пишет. Но сам дочуры своей побаивается. Робеет как-то перед ней. Тушуется. Заискивает даже. Но видно было, что любит ее очень. В газетчики из-за таланта взяли, ну и из-за классовой чистоты. Из беднейшего крестьянства он. И сначала селькором был. Потом взяли в штат. А дочка – вуз заканчивает. Специализация опять же не хухры мухры, а английский. Ну и вообще продвинутая. Психологией интересуется, философией. В филологии вообще считает себя экспертом. -Для меня не читать, все равно что не дышать, – говорит с придыханием. И отца своего, тексты его критиковала резко. Хамовато даже. Он улыбался смущенно.
Ну а в тот вечер мы ели пироги. Матушка большая была по пирогам мастерица. Ну и выпили за знакомство. А потом она пригласила меня в свою комнату. Стала доставать книжки из шкафа, и гнать чего-то про неисчерпаемость вселенной, многоликость мира и человеческих проявлений в нем, про диапазон страданий и этику поступков… Ну знаете как в том анекдоте. Мужик просит приятеля: «Познакомь с культурной девушкой. А то я все один да один.»
– «Есть одна». Приводит. Оставляет одних. Сидят, чай пьют с вишневым вареньем. Она ему об архитектуре рассказывает, о литературе, демонстрирует свою интеллигентность. А он молчит. «Чего же вы молчите? Я все рассказываю и рассказываю, а вы все молчите и молчите». Поскреб он в затылке и говорит: « Давайте лягимте скорее в койку».
– Знаешь, о чем я мечтаю порой? – прижав к груди томик стихов, – спрашивает моя у меня. -Уединиться и писать, писать, писать. Больше всего на свете я хочу заниматься литературным творчеством. А еще взять опекунство над сиротой. А еще хочу много-много детей.
Затем мы яростно целовались, лежа на кровати. Под зеленым светом плафона настольной лампы. Я все куда-то скатывался вниз с перины и огромной подушки. Но пытался добраться до заветного места. Ничего у нас не получилось… Да и родители были дома.
После мы долго сидели в сквере. Есть там один неподалеку. И я глядел на не зашторенное окно пятиэтажки, что стояла напротив, на красный ковер на стене, он почти весь был виден, и недоумевал: ну почему, почему такое тяжелое сердце? Что за приступ тоски? Ничего ведь не произошло. Ну, обласкали друг друга. Ну, с кем не бывает. Как встретились – так и разойдемся… Куда я опять лезу?
Подошел мой автобус.
– Ну, пока, – чмокнул я девушку в щеку и обнаружил на лице ее какое-то странное выражение. Губы сладко улыбаются, а глаза как две колючки. Так на меня она смотрела впервые. Прочла мои мысли? Но даже если и прочла. Я же ничего ей не обещал. Даже про любовь ей не врал…
На следующий день, вечером, отправился я к Ксении, чтоб пригласить ее прогуляться.
Звонок. Она открывает дверь. Выходит на площадку.
– Володя, я должна сообщить тебе кое-что важное.
Пауза. Лицо серьезное.
– Что? Что случилось?
– Вчера, мне неловко об этом говорить.
Пауза.
– Ты. Ты мне повредил девственную плеву.
– Как? У нас же ничего не было! Этого не может быть!
– Может… Подожди.
И она скрывается за дверью квартиры. Тут же появляется и показывает беленькую тряпочку с капелькой крови.
– Сегодня я не смогу с тобой пойти. Мне надо все это пережить. Прости.
Дверь закрывается. Стою в недоумении, разинув рот.
– Вот попал так попал! Ну, доигрался, мальчуган! Она же – студентка. Я же работаю там… Заигрался в разведчика недр. Придурок!
Другому на моем месте было бы наплевать на эти белые тряпочки. Но, к сожалению, я был устроен как-то не так.
***Свадьба не была шумной, скорее тихой. Черная «Волга» из обкомовского гаража, белое платье, фата… Самые близкие родственники и друзья. Застолье организовали в этой их большой гостиной. Зале, как называла комнату мамаша. И жить мы стали у них.
– Ты прав, – шептала она, лежа рядом, – Ты прав, сироты нам ни к чему. У нас будут свои дети. Много-много детей. И мы воспитаем из них настоящих советских людей. Они вырастут полные собственного достоинства. Честными, смелыми. И никогда, никогда не услышат ни одной нашей ссоры. Мы с тобой педагоги и своих детей травмировать не станем. Мы вообще ссориться не будем. А если возникнут проблемы, мы будем их обсуждать. Но тоже не при детях. Мы будем обсуждать их на нашей кухне. Это будет наша с тобой исповедальня. Ты будешь мне говорить о том, что тебя во мне не устраивает. Я буде тебе говорить, что не устраивает меня в тебе. И мы будем находить компромиссы. Да?
– Ну, конечно, – поспешил я ее заверить. Мне чертовски хотелось спать.
Поначалу, впрочем, и повода не было что-то обсуждать. Да и времени. Днем я работал, она училась. А вечерами мы мотались то в Драму, то в Филармонию. Ксения была заядлой театралкой.
Что я чувствовал все это время? Ну кроме желание есть, спать и заниматься сексом? А ничего. Какая-то тотальная анастезия, накрывшая после той ее фразы относительно порванной плевы.
Я ничего не чувствовал, и ни о чем не думал. До тех самых пор, пока меня не призвали на кухню для серьезного разговора.
Через два месяца после свадьбы Ксения сказала, что ждет меня там. И отправилась первой. Мы могли бы побеседовать и в комнате. Мы там были одни. Но доктор сказал: в морг, значит в морг.
Вошел, она предложила мне сесть. Сама стала ходить из угла в угол, словно собираясь с мыслями. Потом села напротив и, выдержав еще одну театральную, но уже более короткую паузу, спросила:
– Володя, ты говорил, что у нас будет много детей.
– Я?! Ну, да. А в чем, собственно, дело?
– Так почему ж ее нет?
– Кого?
– Не старайся казаться глупее, чем ты есть на самом деле! Вот уже два месяца мы живем регулярной половой жизнью, а беременность не наступает. Я была у врача. Со мной все в порядке.
– Со мной тоже.
–Ты разве был в больнице?
– Нет.
– Как же можешь утверждать? Я так мечтаю о детях! Ведь дети –это…
Не десять, не пятнадцать, не двадцать минут. Не менее часа, она мне объясняла, что значат дети в жизни людей, и как я виноват в том, что эта ее мечта не осуществляется.
– Но ты молодая. Мало ли что. ..
– Проблема в тебе.
– Да как это во мне, если, – не выдержал я…
– Что «если»?…
О Ане она не знала. В стране меняли паспорта, и в новом моем отметке о браке и его расторжении не было. А сам я не склонен был посвящать еще и ее в эту свою историю.
– Ну… я бы, наверное, чувствовал, что что-то не так.
– Совсем не обязательно.
– Ну, хорошо давай попробуем еще, – предложил мировую. Я полагал, что все само собой рассосется. Не рассосалось. Ровно через месяц она опять вызвала меня на кухню, про себя я стал называть этот ритуал «заседанием политбюро», и начала насиловать на предмет моей мужской состоятельности.
Елки – палки – надо идти. Пошел. Кроме вендиспансера, который я уже имел удовольствие посещать, у нас был еще один. Этот находился в старинном особняке в самом центре города, где у нас был областной суд, УВД, КГБ, и корпуса суворовского, бывшего суворовского, ну и наш вуз.
– Так, посмотрим, – сказал доктор и протянул мне презерватив. – Ну что смотришь? Двигай в туалет и включай фантазию.
Вот говорят, что у России две извечных беды – дураки и дороги. Врут – три. Дураки, дороги и туалеты. Облупленные стены, засранные толчки, вонь такая, что кружится голова…Нет, может, кого –то только такая обстановка и возбуждает… Короче, бросил я этот его презерватив и до дому.

