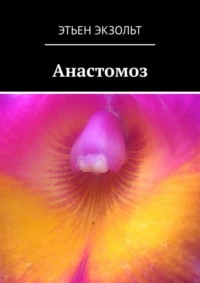Полная версия
Сердца наши золотые, инкрустированные бриллиантами
Раньше, чем я успел воспротивиться его поспешности и сообщить ему о новых своих замыслах, она натянула ту одежду, бросилась к двери, открытой братом и выпрыгнула из квартиры, оставляя за собой золотистый и медный лязг.
Выдохнув, я снова упал на диван, расслабляясь и вытирая пот, чувствуя себя солдатом, сбежавшим из плена и мечтающим снова вернуться на фронт и все это осталось приятными воспоминаниями для меня, ибо не может быть иным день, когда мужчина впервые увидел нагую женщину
На перекрестке улиц Янтарной и Можжевельников я выбрался из машины, ударившись рукой о дверь, я махнул в окно рукой, надеясь не увидеть рыжеволосого истончителя следующие несколько месяцев, я споткнулся о бордюр, больно ударившись пальцами и оставив еще одну царапину на правой туфле, но подобные мелкие неприятности всегда происходили со мной на этом пустынном, спокойном перекрестке, мстившим мне за нанесенное ему оскорбление, исторгнутое мной в возрасте пяти лет, когда на этом самом месте девочка отказалась меня поцеловать. Испытывая извращенное влечение, я не избегал этого места, а нередко и сам называл его в качестве пригодного для встречи. Здесь находилось одно из самых приятных для меня в том городе заведений, маленькое кафе «Пустынная Звезда», где подавали кофе, сваренный по древнему мадренийскому рецепту, ошеломляюще горький, разрывающий сердце, намекающий на тысячи неосуществимых мечтаний, отнимающий на несколько часов умение воспринимать созвездия. Многое здесь было приятным, включая и нежелание владельцев ставить автоматические двери, требовавшее от меня вцепиться в позолоченную витую ручку, и, прилагая немалые усилия, сдвинуть с места массивную деревянную преграду.
Оказавшись в благословенной цветочной прохладе, я поморщился, с трудом подавил в себе желание чихнуть, кивнул узнавшей меня и улыбнувшейся официантке, прошел вглубь, в зал для курящих, за решетчатую перегородку, где занял столик возле нее и около окна и стал ждать, пока мне принесут мой обычный заказ. Вскоре широкобровая девушка в узких черных брючках воздвигла передо мной золотисто-желтую чашку с улыбающейся на ней черной звездой и ноздри мои дернулись от горького, томительного, таинственного, волнующего запаха. Так мог бы пахнуть череп девственницы, высохший посреди забывчивых песков, чучело вымершего животного, изувеченная старая картина, ножны древнего меча, хранящие его рассыпавшееся алой трухой лезвие. Кивнув, отметив, как увлеченно обтягивает белая блуза грудь официантки, я проследил за ее шелестящей походкой и едва успел сделать первый глоток, как стул напротив меня заскрипел, отодвигаемый рукой, не предназначенной для прикосновений к чему-либо, кроме рукописей и книг.
Вернув чашку на блюдце, я терпеливо ожидал, пока он, посматривая вокруг сквозь узкие очки, не выкопает из карманов пиджака пачку сигарет, зажигалку и серебряную шкатулку мобильного телефона и не сложит их, одну на другую, в жертвенный менгир возле стеклянной круглой пепельницы, только после этого заняв свое место и обратив на меня ироничный, снисходительный, насмешливый взгляд чуть прищуренных глаз.
Сдерживая привычный лай приветственных слов, я спокойно смотрел на него, стараясь забыть о чувстве превосходства, неизменно от него исходившем. Познакомились мы много лет назад, во время учебы в университете и в те дни именно я был превосходным и превосходящим, сияющим, быстрым и рассудительно-дерзким. Но мне было скучно в том заведении, я был слишком ленив и недостаточно честолюбив для монотонной радости образования и вскоре оставил то обиталище великой древности. Михаил остался единственным, с кем я поддерживал связь, ибо мне казалось то любопытным и познавательным, позволяло сохранять иллюзию некоего отношения к покинутому мной и, посмеиваясь над абсурдностью некоторых событий научного мира, убеждать себя в том, что немногое было потеряно и упущено, что настоящая моя жизнь не менее увлекательна и многообразна.
Официантка подошла к нему, он осмотрел ее обычным своим, в меру нескромным, оценивающим, слегка подозрительным взглядом, заказал эспрессо и проводил девушку взглядом долгое время не имевшего женщины самца.
– Для чего ты хотел встретиться со мной? – ткнувшись ногтями в чашку, я позволил электрическому страху пройти от них до сгиба локтя, где они остановились, запутавшись в венозном откровении.
Возмущенно вскинув брови, оскорбляясь моими прямотой и поспешностью, он скривил свои губы молчаливого пророка, вызывая во мне самые неприятные подозрения, нагнулся и достал из белого пластикового пакета черный панцирь кассеты, который и положил на стол, произведя при этом звук раскалываемого обезьяньего черепа. Наслаждаясь горячей гладкостью корпуса, я взял его в руки, приподнял пружинную крышку, посмотрел на зеленоватую, переливающуюся слезливым хитином ленту под ней, в каждом отблеске света над которой виделись мириады образов, неясных, бесформенных, ускользающих от восприятия, сменяющих друг друга с такой скоростью, что невозможно было одновременно определить их местонахождение и скорость. Громогласно древние, существующие ровно столько, сколько сама возможность их восприятия, они возникали радужными бликами на металлической пленке, намеками на рифму, отголоском заблудших звуков несотворенных музыкальных инструментов, звоном потерянной монеты, радостью незачатого ребенка. Нечто охмелевшее, торжественно-непристойное, неприязненно-очаровательное мерещилось в них, смятенный отсвет в чужом окне, раболепная тишина посторгазменной спальни, оцепенелая тяжесть обмана. Знакомая мне последовательность признаков, голографическая плеть естества.
– Что на ней? – кончиками пальцев я касался кассеты, уже вернувшейся на середину стола, не уверенный в необходимости принимать ее призрачные тайны.
– Тебе стоит взглянуть. Один знакомый принес ее мне. – сделав глоток своего мерзкого напитка, он с восхищением скривил губы. – Это всего лишь случайность.
Закурив сигарету, он осмотрелся вокруг, бросил взгляд на пламенное чучело археоптерикса, разбрасывавшего яркие перья неудач из-под высокого потолка, на деревянного идола с двумя огромными фаллосами, притаившегося в углу, декоративных золотистых скарабеев, расползшихся по светло-желтым стенам и все это, должно быть, показалось ему пошлым и жалким. Совершив еще один глоток, он отодвинул стул и поднялся.
– Где тут уборная? – рука моя махнула в сторону тех задумчивых комнат и он удалился, оставив свой телефон на столе.
Обычно он забирал его с собой, как делал и я с принадлежащим мне устройством. Необходимое, счастливое, рассудительное, изысканное недоверие всегда присутствовало между нами, подразумевая, что другой может воспользоваться ошибкой, неудачным словом, безупречным стечением обстоятельств и узнает нечто тайное, изведает сокровенное знание, удивительное и парадоксальное, расходящееся с представлением и желаемым мнением, способное стать поводом для множества вдохновенных рассказов и повествований. Ожидая, пока он скроется за барной стойкой, за стальными газгольдерами, украшенными клыкастыми и рогатыми эмблемами прославленных пивоварен, я размышлял, пребывая в уверенности, что совершенное им имело характер нарочитый и требующий моего действия, взывающий к тому моему поступку, который казался наиболее естественным и непринужденным. То была новая и странная игра, чьих уступок я не понимал, но мой ход, обозначенный чужим хитроумием и предлагаемый с такой угрюмой точностью, был увлекателен и требовался уже для того, чтобы узнать, какой невероятный подарок был назначен мне и я следовал ему, принудил себя, поступая против своих обычных правил и принципов, ибо именно так и следовало вести себя с Михаилом, только такое поведение являлось наиболее разумным. Схватив его телефон, серебристое устройство, немногим больше принадлежавшего мне, столь же восторженно устаревшей и непопулярной даже на момент выхода модели, я раскрыл его и пальцы мои торопливо скользнули по непривычно вытянутым кнопкам, соскальзывая с них, погружаясь в незнакомые иконки. Потребовалось несколько секунд для обнаружения среди них хранилища фотографий, где я неожиданно для себя узрел снимки застолий с незнакомыми мне людьми, мужчин, стоящих возле автомобилей, женщин, обнимающих деревья, радостно оскалившихся собак и птиц на каменной мостовой. Все это казалось мне скучным, неправдоподобно обыденным и я пролистывал фотографии, надеясь обнаружить среди них нечто достойное меня, уверенный, что оно должно присутствовать здесь.
Широко раздвинув колени согнутых ног, она сидела на смятой простыни, спиной к окну, изуродованному жалюзи, подняв над собой переплетшиеся, сцепившиеся руки, выгнув спину и выставив груди. Распущенные волосы выглядели подозрительно пышными, неаккуратно взбитыми, шею ласкал ошейник с треугольными заклепками, купленный когда-то мной, а улыбка принадлежала к используемым ею для преднамеренных подлостей. Допуская возможность того, что один из хранившихся на моем компьютере снимков мог попасть к Михаилу или кому-либо из наших общих знакомых, я, выйдя из режима просмотра и закрыв телефон, вернул его на место и сидел, пытаясь вспомнить место, где могла быть сделана та фотография. Но нигде, ни у кого и никогда и тем более там, где мы бывали вместе, имея с собой фотоаппарат, я не помнил наличия жалюзи. Холодная, всевидящая тоска обвивалась вокруг моих жизнерадостных подозрений, неожиданно заполнившихся безжалостной пустотой. Непонятное предательство, неожиданное и необъяснимое, совершенное, как показалось мне, глядя на сосредоточенную жестокую радость в ее глазах, ради развлечения, восхищало меня и пугало. Вполне довольный тем, как происходило мое существование, я не желал каких-либо перемен в нем, мне не хотелось оставлять одну женщину ради поисков другой, я не видел необходимости в том, ведь и уже имевшаяся у меня соглашалась на все, предлагаемой ей и не удивлялась, обнаруживая удовольствие в том, что я совершал с ней против ее воли, тем самым представляя тот тип спутницы, которым я, при небольшой помощи самоубеждения, мог быть довольным. Имелись и другие, недвусмысленно заявлявшие об интересе ко мне, предлагавшие мне свое тело, убеждавшие, что с ними мне будет лучше, но до сих пор измена казалась мне неинтересной, я должен был узнать о ней нечто, восхитившее бы меня, превратившее бы ее в саранчу, увлекшую меня наблюдением за ней, в блеске изумрудных надкрылий явившую видения растаявших городов, позволившую мне грезить о гибели моей в шипастых ее жвалах, удивительными повадками не устававшую забавлять меня, а движением лап создающую необычный ритм, пригодный для непристойной поэзии.
Ожидая возвращения Михаила, я сидел, не шевелясь, наблюдая за таянием темной пены на стенках чашки, оставлявшем апатичные недоверчивые узоры, размышляя о том, как надлежало мне ответить на этот снимок. Более всего было мне любопытно, сам он сделал его или же скопировал, получив из иных рук. Начинал я догадываться и о том, что содержалось на кассете и от этого мне меньше всего хотелось забирать ее с собой. Даже если и имело место вздорное предательство, вспыльчивая измена с ее стороны, мне было достаточно и того, что я уже увидел, ничто другое не могло иметь большего значения или привести к искажениям в моем мнении. Но я был вынужден признать с самодовольной ухмылкой, что меня возбуждает возможность увидеть совокупление моей девушки с другим мужчиной, находя в этом присутствие неопределимого запредельного, невероятного, разрушающего действительность, чудесного и опасного, способного изменить все во мне, превратить меня, наконец, после многих лет бесстыдных мечтаний, в существо сосредоточенно-спокойное, отстраненное в кокетливом прозрении своем, подобное тем, кто претерпел немыслимые страдания или стал жертвой поразительных явлений, пережил катастрофу, равной которых не случалось ранее или выдержал насилие, ставшее его навязчивым удовольствием. Возможности мои, если бы смог я вобрать всю силу того откровения, впитать ее аметистовую пыль, поймать отброшенный хвост и вонзить его в свой кровоток, проглотить ее всю, как делает то женщина с семенем возлюбленного ею мужчины, превзошли бы любые мои надежды. После этого мне оставалось бы только оформить собственное учение, организовать сперва секту, затем религиозную общину, а потом и церковь и в полной мере наслаждаться всеми ее преимуществами рутинной власти.
Вернувшись, Михаил первым делом поднял со стола свой телефон, открыл его, взглянул на экран, довольно улыбнулся. Извинившись, он сообщил, что у него совершенно не остается времени, пообещал в ближайшее время позвонить мне и, оставив на столе намного больше, чем стоил его недопитый кофе, поспешно покинул то заведение. У меня не оставалось другого выбора, кроме как принять кассету, унести ее с собой, не позволяя ей оказаться в чужих руках. Доставив ее в безопасное место, я мог решить дальнейшую судьбу записанного на ней, стереть ее, уничтожить в огне, пригласить своих близких друзей на просмотр, не зная, что именно покажу им и насладиться унижающей неожиданностью или же спрятать ее среди прочего подземного хлама, надеясь когда-нибудь обрести достаточную смелость для обращения к впитанным ею визгливым тайнам. Протянув кончики пальцев к неразборчивой чистоте того тусклого пластика, я дотронулся указательным до его угла, приняв острую твердость как укол венценосного жала, я подтянул ее к себе, достал из кармана брюк ключи, сжал между пальцами голову собаки, нажал на кнопку, скрытую между ее ушей. Яркий зеленый луч вырвался из ее пасти. Подставив под него переливчатую пленку, я получил в ответ только всплывшее над ее поверхностью объемное образование, исходящее перевитыми жгутами, покрытое углублениями, полосами, вмятинами, выступами, подобное изображению болезнетворной бактерии или вируса, мягкое, бесформенное, ненасытно опасное, завораживающее мерцающей, непристойно подергивающейся неопределенностью. Проведя вдоль открытой ленты, я вызвал череду подобных явлений, взвивающихся над ней, сменяющих друг друга, переливающихся, переползающих одно в другое, но то была всего лишь неумелая шутка. Видения более неистовые требовали для себя движение быстрое, скользкое, сочетающееся с натяжением и перемещением самой ленты, ее соблазняющим изгибом перед напряженными лазерными головками и я, отпустив крышку, щелчок ее счел ударом, проверяющим надежность инструмента палача, отчего вздрогнул, дернувшись на стуле. Мужчина, занимавший в это время соседний столик, неодобрительно взглянул на меня, вынудив обратить на него внимание. Рукава черной форменной рубашки высоко забиралась по волосатой руке, обнажая изуродованные шрамами запястья. До прошлого лета я был безразличен к полицейским, никогда не нарушая закон, стараясь не пренебрегать даже правилами перехода через улицу. Не имея никаких столкновений с ними, я почти не замечал их существования, испытывая к ним некое подобие уважительной брезгливости. В представлении моем все они, будучи существами вооруженными и представляющими собой абсурдного и скучного монстра, находились безмерно далеко от всего, интересовавшего и привлекавшего меня и уже только по этой причине я должен был их остерегаться. Кроме этого, мое увлечение живородящей порнографией, мои пристрастия в литературе и искусстве расходились с общеприятными, самоуверенно приближались к запретным, а иногда и становились таковыми. Одно только эстетическое расхождение делало любые контакты с властью нежелательными для меня и все эти годы мне удавалось избегать того без особых стараний с моей стороны.
В тот июльский день, почти год назад, мы со Снежаной отправились на Пляж Ящериц, где не были уже довольно давно. Место это нравилось ей, мне же было безразлично, на каком из песочных кладбищ я похороню несколько часов своей жизни. Новый черный купальник, купленный ею и, по обещаниям, обязанный понравиться мне, возбудить меня и скрасить мою скуку, не оправдал возложенных на него ожиданий. Прижимаясь к ее телу, облегая грудь так, что сквозь выглядящую шелковистой ткань проступали соски, он едва прикрывал их, спускаясь с шеи двумя тонкими полосками, угрожая соскользнуть при неосторожном движении или сильной волне, узким презрением скользил по животу, пряча под собой пупок, укрывал выбритый лобок, тремя нитями возносился над бедрами к ягодицам, между которыми исчезал, оставляя спину полностью обнаженной. В нем она чувствовала себя скрытно порочной, своей обнажающей тонкостью он напоминал ей кожаную упряжь, переплетное сочетание ремней и цепочек, купленную мной в прошлом году и смущавшую девушку настолько, что даже передо мной она стеснялась появляться в той непригодной для бега сбруе.
Швырнув мне синее платье, она подняла над собой руки, выгнулась, выставив вперед правую ногу, позируя для сцены неуютного соблазнения. Обеспокоенный тем, достаточно ли сильно я сжался и сможет ли она понять, как все это неприятно мне, я понадеялся, что на сей раз она сможет понять бессмысленность всех ее попыток сделать подобные места приятными для моих тенелюбивых желаний. Широкие солнцезащитные очки не позволяли мне видеть происходящее с ее глазами. Улыбка осталась прежней, но за пару проведенных со мной лет она, к моей радости, научилась, наконец, улыбаться текуче и лживо. Нечто полезное все же передалось ей от меня, помимо нескольких инфекций. Отвернувшись, позволив созерцать ее провинциально подтянутые ягодицы, она тряхнула головой, повернулась ко мне и присела, чтобы отдать очки. Несколько мгновений, понадобившихся мне для того, чтобы дотянуться до их черной ребристой дужки, я всматривался в ее сощуренные глаза, пытаясь высмотреть в них ожидаемую мной презрительную ярость, но строптивое солнце слепило меня, облака слишком сильно гудели, чтобы я мог сосредоточиться и я кивнул, я повесил очки на ворот своей футболки и откинулся на шезлонге под зонтом с прыгучими пуделями и услужливыми фокстерьерами, не без удовольствия наблюдая за тем, как девушка шествует в сторону обветшалых океанских волн.
Сам по себе океан всегда был мне приятен. Родившись в километре от него, я первым же вдохом вобрал в себя его ревнивую необузданность, смертоносный его покой, путаную его неумолчность. Если я оказываюсь слишком далеко от него, мне становится не по себе и я не могу произнести некоторые слова, состоящие из нечетного количества букв. Ощущение забытой потери возникает во мне, если перестаю я чувствовать гнетущую его неделимость, его урчащий, голодный голос, влекущий пустой туман. Но я не люблю разнузданные его волны, ударяющие с добродушной, но все же опасной силой, подобно старшим товарищам в удалой дворовой игре, после чьих насмешливых тычков долго не проходят синяки, неприятна мне его вода, оставляющая послевкусие подростковой спермы, ленивые водоросли, хватающие за ноги ведущей прочь от распутных кварталов матерью и немедленно отпускающие, не желая тратить силы на брыкающееся утопление. Находясь поодаль от него, забравшись на рассыпчатую скалу, устроившись на голубиной скамейке променада, я мог часами смотреть на его воспаленные воды и каждое биение их отзывалось во мне проникновенными мыслями и кроветворными видениями. Последний раз я касался его воды десять лет назад.
Удобно вытянувшись на шезлонге, опустив с него правую ногу, дерзостно нависшую над горячим песком, я открыл книгу, остававшуюся недочитанной уже несколько месяцев и, пока спутница моя плескалась в океанском чреве, старался уследить за причудливой мыслью автора, не способного решить, был ли ему больше приятен приключенческий роман или мистико-философский трактат. Не имея сил, опыта или таланта для совмещения их, он создал нечто печальное, медлительное, неповоротливое, затянутое, небрежное, повторяющее вновь и вновь одни и те же ходы, события, повороты, гипнотизирующее их ритмичным следованием, заставляющим позабыть о неких предшествующих размышлениях или злоключениях, о пропавших среди страниц, исчезнувших без предупреждения и следа персонажах, немедля забытых всеми остальными из понятного страха стать следующим пропавшим. Книга была популярной в тот год и я чувствовал себя обязанным знать ее, понять, что представляет собой она, дабы иметь возможность во всеуслышание глумиться над ней, сопровождая то множеством цитат и толкований.
Океан смеялся вокруг меня, отзвуками отсыревших шуток наполняя истощенное утро. Приглушенный тот смех бредил вокруг меня, недалекий, беззлобный, вялый, презирающий все вокруг, никому не отдающий предпочтения, унизительный и для впервые оказавшихся возле этих вод и по отношению к тем, кто каждый день выходит, надеясь вернуться с богатым уловом. Распугивающий змеистые облака, танцем плотных глубин своих привлекающий шторма и тайфуны, манящий южные ветры присоединиться к нему, грезя о проделках юности, когда они, заскучав, сметали все живое с маленьких островов в надежде забыть о предательстве неба, океан мог бы стать жестоким другим для подобного мне оскопителя насекомых.
С этим континентом отношения их сложны. Неприступно прочная сама по себе, масса сия укрепилась в том, разместив возле самого горизонта и за ним станции ветроловов, превратив необозримые пространства над водой в их охотничьи угодья, дабы не повторилось более наводнений, принуждавших вновь отстраивать города. Белесым призраком, гнетущим дымчатым миражом я видел одну из тех конструкций, поднимающуюся тупоконечными башнями, убеждающую меня в том, что могу я быть спокойным и наслаждаться предлагаемой мне жизнью. Волна налезала на волну с усталой похотью бесплодных любовников, исходя яростной пеной, не стесняясь играющих на песке голых детей, наблюдать за которыми было поучительно и омерзительно одновременно. Набрав полную ладонь песка, пузатый загорелый мальчик лет пяти от роду с размаху, точным ударом снизу вверх налепил его на промежность коротко стриженой девочки несколько старше него, стоявшей в ожидании того с широко раздвинутыми ногами и эта нелепая симуляция того, что им предстоит еще нескоро вынудила меня ощутить слезливую тошноту. Смеясь, они трясли рыжеволосыми головами, а вокруг все было еще более отвратительным, чем они, не имея возможности для рассудительного соревнования. Двое молодых людей забавлялись с надувным белым мячом, от каждого удара о песок терявшего одну из нарисованных на нем лунных бабочек. Девушка, выбравшая неудачный, собиравшийся складками белый купальник, оставляла в песке намного более глубокие следы, чем я, таинственным образом лишилась талии, сокрыв ее под бугристой мягкостью, а мужчина ее, высокий атлет с волчьим прищуром глаз и рассеченной правой бровью, не мог скрыть своего возбуждения под маленькими синими плавками. Вид на океан был испорчен их удушливой похотью, им следовало бы отправиться в какую-нибудь квартиру со старой мебелью или в мотель, уединиться на пустыре за ржавым корабельным корпусом, но не пытаться скрыть свои намерения игрой. Чтобы не испачкать песок и успокоиться, мне пришлось закрыть глаза, вспомнить нескольких жертв военных преступлений, казненных в прямом эфире. Только после этого я нашел силы вернуться к чтению, но вскоре был вновь прерван, ощутив тяжелое движение в правой от себя стороне. На этом пляже следовало осторожно выбирать места. В зеленоватом его песке, закапываясь иногда на глубину до нескольких метров, прятались давшие ему имя ящерицы, гекконы Аретино, в прошлом едва не истребленные из-за своей удивительной кожи. Стараясь не шевелиться и не вспугнуть пресмыкающееся, я наблюдал за тем, как показалась из-под песка его голубоглазая голова, щеголявшая темными, разместившимися безо всякого порядка шипами. Вытянув вперед неуклюжие толстые лапы, существо медленно выдавило себя из проваливающегося под ним песка, поднимая свое длинное, шишковатое тело ко всем мирским лукавствам. Оказавшись на солнце, ящер поспешно сменил белесый цвет своей кожи на темный и желтовато-синий. Три полосы светлых пятен протянулись вдоль его хребта, длинный хвост натирал песок, желая превратить его в стекло. Полностью выбравшись, геккон, длиной равный росту десятилетнего ребенка, осмотрелся, убедившись, что место, где появился он, почти такое же ровное, как пространство вокруг и ничем не способно выдать себя, повернул голову ко мне и замер, уставившись на мою персону, только сейчас меня и заметив. В последние годы ящерицы все меньше боялись людей. Переливающаяся их кожа, меняющая цвет, гладкая, словно шелк, вышла из моды, наказание за убийство геккона было слишком суровым для жадного риска и всеядные твари те изгнали носух, сменили кошек в прибрежных кафе на этом пляже, сидя возле столиков и терпеливо ожидая, пока кто-нибудь из посетителей смилостивится и сделает себя щедрым. У меня не было ничего съестного, мы взяли с собой только бутылку мускусного чая и я, смущенно улыбнувшись, покачал головой, разведя руками, извиняясь перед ящером за то, что мне нечем было его угостить. Как будто поняв меня, геккон резко развернулся и пополз прочь, к скоплению крикливых мужчин, разложивших на полотенце пластиковые контейнеры с пищей. Понадеявшись на их снисходительность к голодной рептилии, я смотрел на него, пока он не приблизился к ним, наслаждаясь порывистыми его движениями, сопровождавшими каждый размашистый шаг замысловатым извилистым течением тела, сочным поблескиванием его стробоскопической чешуи, в оставляемом им на песке следе наблюдая сходство с очертаниями Млечного Пути.