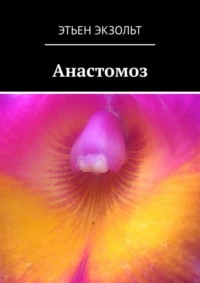Полная версия
Сердца наши золотые, инкрустированные бриллиантами
Миновав пустое футбольное поле с покосившимися изломанными воротами, сухое и безжизненное в частоколе колючих трав, проскользнув по узкой дорожке, сдавленной железными стальными оградами, пригибаясь, не позоляя разгуливающей по красноватым сердцеликим листьям тле попасть на мои волосы, я протиснулся между старых деревянных бараков, отказал себе в сдержанности и не преминул заглянуть в пустые окна, насладиться их коварной прохладой, болезнетворным запустением, отблеском неясного света в остриях разбитого стекла, наклонившегося в рассохшихся дверцах древних шкафов, увлек себя на мгновение мертвыми птицами, раскрывшими клюв в надежде проглотить еще немного устаревшей пыли. И поторопился уйти, сбежать, скрыться от этих гиблых пространств, только бы не уподобиться увядшим крысам, крылатым и хлопотливым, преодолевая желание переступить через покореженные рамы, навсегда остаться в радости прогнивших стен, забыть обо всем в сумеречной прохладе, окаменеть в бесприютной глухой тоске, навеки остановиться с обреченной шаткой улыбкой на принявших очищение губах.
Стоило мне покинуть маленькие старые дворы, как я оказался перед зелено-черным шлагбаумом, отстранявшим меня от широкой улицы с высокими фонарями, притягательно пустой, заманчиво двускатной. У меня не было желания тратить деньги, но это могло сократить мой путь и сделать его чуть более приятным. Решившись, я подошел к покосившей будке, нагнавшей дремоту на прислонившегося к пластиковой белой стене охранника и постучал в исцарапанное стрекозами окно, из решетчатого отверстия выпустившее на меня неприятно холодный воздух. Не заметив моего присутствия, служащий продолжал дремать, мятая черная фуражка со змеиным черепом кокарды съехала набок, из приоткрытого рта тянулась зеленоватая слюна. Взглянув на шлагбаум, вспугнув ползшего по нему полосатого, красно-черного геккона, я задумался о том, смогу ли перепрыгнуть через неверную преграду, как уже много раз делал когда-то, но потом мне пришлось бы бежать, сопровождая то тягостным воем сирены. Сегодня у меня не было желания нарушать правила, не хотелась шума и ноги немного болели после проведенных в интимных усилиях ночных часов и потому во второй раз я постучал настойчивее, с такой силой, что зашаталась сама будка. Только это и разбудило сонного стража, количеством подбородком смущавшего всех ценителей нечетных чисел. Приняв мои монеты и не взглянув на них, оставив их лежать на белом побитом пластике, он бросил мне жетон и сразу же вновь расслабился, позволив силам естественным и упрямым снова склонить его в охлаждающий сон. Круглый красный жетон, в обкусанном уродстве своем обретший сходство с пережившей извержение вулкана монетой, превратил лик неведомого правителя в неясную растертую округлость, слепил из букв неразличимую приторную вязь, сплел из цифр веревку висельника, разыгрывая себя беженцем с суконных столов.
Отдав его звонкому металлическому чреву, с трудом протолкнув гибкую пластинку в поржавевшую щель посреди гнутого металла, я, пригнувшись, проскочил под шлагбаумом, не дожидаясь, пока он поднимется полностью.
Старые эти улицы никогда не смогут стать для меня приятными. Гладкие камни мостовых, отполированные каблуками многих поколений проституток, слишком скользкие для моих туфель, вызывали у меня мускусную тошноту, был слишком темным на мой вкус кирпич низких домов, считавших количество этажей больше трех непозволительным оскорблением, некоторые из страхов моих признавали невозможным находиться в комнатах с такими узкими окнами, что через них смогла бы протиснуться только самая тощая кошка. От долгого пребывания здесь у меня заболела бы голова и, скорее всего, я лишился бы возможности писать слова длиннее семи букв. В столь ранний час здесь почти не было людей, только дворник в черном комбинезоне уныло брел, тяжело дыша под раскрашенной золотыми стрекозами дыхательной маской, сгибая спину от тяжести красного увечного баллона, тянувшего к ней серебристую трубку. Сметая в сторону использованные презервативы и красочные упаковки от них, вызывавшие во мне чувства, подобные предчувствию праздника, он подволакивал левую ногу, носком болотного сапога оставляя на асфальте черный прерывистый след. Поспешив пробежать мимо того существа, я опустил взгляд во избежание случайных столкновений его с рекламными объявлениями увеселительных заведений, с облепленными блестками улыбчивыми девушками и маслянистыми юношами, ибо от вида их кишечник мой болезненно сотрясался, причиняя мне задористые страдания и прошел через решетчатые ворота мимо прижимающихся друг к другу зазубренных домов. Левый выпустил ко мне прохладную оторопь могильных благовоний, а правый защекотал руку электрическими разрядами. Не допуская прочих намеков, я повернул на улицу, улыбаясь вернувшемуся ко мне шуму автомобилей, увлеченно ускользая от идущих навстречу людей.
Остановившись на перекрестке, проведя рукой в поисках благословения по золотистой груди уличного идола и царапающим пальцы соскам, улыбнувшись ее черным длинным вибриссам и ушам с высокими кисточками, ожидая зеленый сигнал светофора с терпением профессионального мученика, я сперва не принял ворчливый, проникновенно-злобный рев автомобильного сигнала на свой счет и только когда он повторился, а затем прозвучал и в третий раз, посмотрел налево, на стоявший возле меня пикап, придавленный к дороге мятой белой цистерной со сладострастно извивавшейся на ней светловолосой, нагой и пышнотелой русалкой.
За рулем старого, горделиво изгибающего ржавый капот, престарело трясущегося даже на холостых оборотах автомобиля, сидел мой давний знакомый, единственный, с кем мне довелось делить женщину. Ухмыльнувшись, я сошел с тротуара, прикоснулся к горячей стальной ручке и низверг себя в раскаленную тайну салона, где тихо гудела раздраженная музыка, бренчала приборная панель, подпрыгивали на ней мелкие монеты, покачивался обвисший на бесполезном зеркале лобового стекла медальон, притягивающий духов, окружающих машину, становящихся щитом перед возможными неприятностями и погибающими первыми в любом случайном происшествии. Старый мой приятель, улыбаясь, посмеиваясь, покачиваясь, подергивая лежащей на влажном блеске руля левой рукой, протягивал мне другую для рукопожатия, зная, как неприятно мне это действо и что всеми силами стараюсь я избегать его, тем самым добродушно смеясь надо мной, как любил делать то с ним и я сам. Высоко выбритые на висках волосы его стали еще более яркими с тех пор, как я видел его в последний раз, рыжий их цвет словно обретал все большую силу с каждым днем, отнимая ее у всего остального организма. Кожа его становилась все бледнее, несмотря на яркое солнце, короткие рукава и проводимые на пляже дни, руки обретали все большую тонкость у того, кто когда-то мог с легкостью поднять своего пустынного мастифа, уже несколько лет он старательно избегал соития и все это я относил к последствиям некоторых его пристрастий, некогда разделяемых и мной, но исчезнувших, стоило мне встретить обитающую теперь в моей квартире девушку.
– Куда ты идешь? – скользкая от пота рука вытерла его о мою ладонь. Пылающая серая кожа сиденья обожгла мою спину, взгляду же пришлось несколько мгновений привыкать к необычной перспективе улицы, ибо слишком редко оказывался я в автомобиле и не мог спокойно принимать столь низкое положение.
Не раскрывая истинных своих намерений и планов, я пожал плечами, опасаясь, что он может пожелать присоединиться ко мне.
– На Янтарную улицу. – даже если и решился бы он доставить меня к тому названию, я немногое бы потерял.
Довольно кивнув, он положил и вторую руку на руль, от чего двигатель машины взревел оскорбленным вожаком стаи, обнаружившим неверность своих самок, и она затряслась чуть сильнее.
– Могу подбросить. – автомобиль резко сорвался с места, как только светофор позволил то, стеснительно накренился на повороте. Чувствуя за собой певучую тяжесть цистерны, внимая гулким переливам жидкости в ней, я испугался, что мы перевернемся, если друг мой, всегда отличавшийся стремлением к растекающемуся риску, еще немного увеличит скорость.
– Если ты поможешь мне. – редко звучавшие его просьбы всегда приводили к самым непредсказуемым последствиям.
Уточнив, сколько времени на это понадобится, взглянув на часы, как будто нуждался в том для соотнесения своих потребностей, я позволил ему увлечь меня и мы совершили вояж по улицам жизнерадостного города, ликующего от собственного непредумышленного величия. Оказавшись в сладостных тисках дорожного затора, я расслабился, вывесил руку из окна, поглаживая царапающий пальцы горячий металл и наслаждаясь необычными для меня впечатлениями. Без подобных явлений город не был бы привлекателен для меня, в нем недостаточно было бы обворожительных страданий, слишком спокойным был бы он и слишком бесстрастным. Моргая, я задерживал темноту глаз чуть дольше, чем было то необходимо, останавливал дыхание, вбирая недовольные крики, неровный гул двигателей, слоящуюся музыку, создавая из всего того уютный хаос впечатлений, необходимых мне больше, чем скороспелый поцелуй. В этой солнечной неподвижности расцветали невероятные, экзотические плоды, только здесь и способные налиться соком. От машины к машине тянулись остролистые лозы осторожного презрения и взаимной завистливой ненависти. Те, кто страдал в старых автомобилях завидовали владельцам новых, обладатели дешевых проклинали улыбчивых хозяев роскошных экземпляров, те же, в свою очередь, сетуя на приторное одиночество, не сводили глаз со скучающих женщин, сидевших в подернутых рваными пятнами машинах, рассеянно ласкавших своих мужчин, надеясь уменьшить их нервозное напряжение. Обвиваясь вокруг осей и колес, вбирая плодородное тепло двигателей, умащаемые каплями маслами, капающими из прохудившихся трубок, в достатке находя здесь и протекающей влаги, извилистые невидимые плети вытягивали свои шипы, распускали многоярусные, непочтительно благоухающие цветы, каждый слой лепестков чьих собственные имел цвет и предназначение.
Первый, лазоревый, с изумрудной каймой, приверженец мягкобрюхих гусениц, исходил сладким подозрением и тот, кто больше прочего был расположен к его убаюкивающему аромату, внезапно вспоминал некую незначительную деталь, неосторожное слово, удовлетворенную улыбку, сокрушающуюся близость, оказывающиеся достаточными для воображаемого предательства и вцеплялся сильнее в руль, выключал музыку, сосредотачиваясь на своих домыслах или делал ее громче, пытаясь их заглушить. Второй, алый, с оранжевыми точками, осиный почитатель, наполнял день терпким безразличием и в безжалостном его гуле все становилось равноценным, теряя различия, устраняя пристрастия и привязанности. Стоило повнимательнее всмотреться в него и становилось неизбежным осознание наивной пустоты, окружающей каждого, безумие начала и бессмысленность завершения пути, а цели и выгоды становились немедля несущественными и глупыми. Стремившиеся к другим людям, переставали тогда понимать их привлекательность. Мужчина, еще полчаса назад торопившийся к обещавшей отдаться ему девушке, начинал сожалеть о своем недостойном порыве, понимая, неожиданно для себя, что грудь ее невелика, ноги коротковаты, сама она полна пошлых сомнений и мало чем интересна в остальном. Юноша, мечтавший о том, как примет его в объятья возлюбленный, вспоминал девочку, поцеловавшую его когда-то и, неуверенный теперь в выборе своем, начинал осматриваться вокруг, пытаясь разглядеть в других машинах детей. Третий же побег, фиолетовый, с темными полосами, поклонник мстительных муравьев, горьковатой пряностью возбуждал переливчатую злость и, словно холодный возбуждающий напиток касался горла, пробуждая человека от тревожного сна, поощряя его выпрямиться на кресле, всматриваясь в чужой металл с костеломной яростью во взгляде, испытывая ко всему вокруг лишающую рассудка ненависть. Тогда больше всего хотелось покинуть свою машину, бить чужие стекла и лица и мог несчастный вцепиться зубами в свою руку, вкушая собственную кровь взамен текущей из незнакомцев и заплакать о забытом в кухонном комоде оружии. А ползучие вьюны пролезали в ливневые стоки наивной болезнью, проникали в трубы, сжимали провода, разгрызали и замыкали их, вынуждая красный сигнал светофора на мгновение замерцать и продолжить свечение свое, столь благотворное для хищных растений.
Пробравшись сквозь сплошной поток машин, иные из чьего числа не выдерживали жары и напряжения, останавливались, отказываясь двигаться дальше, мечтая никогда больше не знать ни одного оборота колеса, ни единого метра любого пути, какой бы заманчивой ни казалась цель, какие блага и дары не обещало бы достижение ее, мы миновали несколько столкновений, рассыпавших вокруг себя загадочную мозаику ярких, радужно переливающихся стеклянных осколков, задиристо слепящих стальных частей, приклеенных друг к другу засохшей кровью. В печальном восторге следил я за искореженными машинами, погнувшимися крыльями, обнажившимися в приступе самоунижающей ярости лампами, вспухшими подушками безопасности, чувствуя в лукавой пустоте погибшей подвижности остановившееся время, наслаждаясь ею как непостижимо прекрасной скульптурой, возникшей по вине обстоятельств чрезвычайных и уже потому заслуживающей отношения к себе как к явлению исключительному и почти невозможному. То, что к воплощению их приложены были человеческие ошибки и неудавшиеся намерения, переоцененные возможности, незамеченные обстоятельства, неловкая забывчивость, упрямая самоуверенность, еще больше сближало представшее передо мной с неким жестоким искусством, и мне было чем насладиться во время моего путешествия.
Повернув в узкие улочки, мы увидели прогуливающих школу мальчиков, осмелившихся расстегнуть черные пиджаки, предоставивших яркой траве газонов ранцы, выставивших на обозрение ремни с порочно сияющими пряжками. Прижимаясь друг к другу, обнимая тонкую талию приятеля, положив голову на его плечо, закрыв глаза в бунтарском смирении, тягостном наслаждении запретной свободой, они притворялись неподвижными дремотными миражами, стараясь просочиться сквозь поры этого мира в иной, незримый и упоительно тягостный. Но мы слишком быстро проехали мимо них для внимательно наблюдения хотя бы за одним подобным исчезновением. Только и удалось мне рассмотреть выщипанные брови и подведенные глаза, пряди светлых волосы над прищуренными глазами, отблеск великодушной и растерянной мечты, отлив моей лучезарной юности.
Между мной и прежним моим сожителем была тишина. С тех пор, как мы перестали делить женщину, нам нечего было сказать друг другу.
Остановившись перед подъездом обкусанного взрывами кирпичного дома, он подмигнул мне и выбрался из машины, не подняв перед тем стекла и только вытащив ключ зажигания. Достав из-под днища автомобиля пустую пластиковую канистру, в синеватом чреве хранившую поблескивающую мутную жидкость, он открыл крошечный люк, вытянул из крана на боку цистерны серебристую гофрированную трубку, заткнул ею мятую горловину канистры, повернул кран. Мутная жидкость потекла с истомленным шумом, уставшая от него, привыкшая к нему, превратившая его в досадную привычку. Зеленовато-коричневая, покачивающая канистру, бьющаяся о ее стенки в надежде растворить их, она торопливо заполняла грязную пустоту, привлекая мой взор, отнимая у мира его терпеливый блеск, становясь приманкой для тоскливых мечтаний. В мутной ее песчаной массе плавали, распадаясь, разваливаясь, разрушаясь, комки неясной слипшейся материи, темные полосы, подобные обрывкам водорослей, выведенных для изгнания с пляжей купальщиков, белесые куски, схожие с обрывками змеиной кожи и все это кружилось, металось, волновалось, поднимаясь и увлекая. Наполненная, канистра была отставлена в сторону и за ней последовала другая. Отступив на шаг от машины, мой приятель достал из кармана красных брюк пачку сигарет «Королева-Кошка» и закурил от красной пластиковой зажигалки, исподлобья посматривая в мою сторону. Вторая канистра наполнилась быстрее, чем предшествовавшая ей, он едва успел сделать несколько затяжек. Отбросив прочь сигарету, ударившуюся о перистый лист дерева и упавшую к муравейнику возле его корней, он кивнул мне на одну из канистр, сам ухватился за черную ручку другой, опасно изогнувшуюся под одинокой тяжестью и направился к двери в подъезд.
Вес превосходил обычно позволяемый мне, чрезмерное напряжение отозвалось болью в правой ноге и могло стать причиной иных страданий, но отступать было уже поздно, я не смог бы раскрыть собственную слабость перед мужчиной, с чьим семенем в женском лоне смешивалось некогда мое собственное. Во мне хватало смелости признавать свои непреклонные недостатки и хитроумные ошибки, иногда я предпочитал создать видимость слабости, граничащей с очаровательной немощью, признаваясь девушкам в импотенции, от который был далек, позволяя им почувствовать себя в безопасности. Но этот мужчина помнил меня обнаженным, гниющим от экстаза, видел мой член, блестящий от женской смазки и его семени, мы были ближе, чем любовники или заговорщики, больше, чем братья, ибо нами было разделено нечто, находящееся вне наших представлений, нам удалось преодолеть границы чужого естества, сломить сопротивление собственного самовластия, совершив тем самым деяние, неспособное скрыться за оправданиями, представляющееся достойным смертной казни каждому, кто когда-либо признавался в особых чувствах к другому человеку. И было то совершено нами не в угоду некоему извращенному желанию и не для наличия в списке поступков еще одного бессмысленного переживания, но согласно громогласному сговору, когда поняли мы, что сил кого-либо из нас отдельно взятого будет недостаточно, чтобы склонить девушку к выбору. Только вдвоем смогли мы убедить ее, каждый из нас в одиночестве оказывался беспомощным во время скоротечных свиданий, все вместе мы ликовали за совместным просмотром сверкающих стальными гранями кинофильмов, только совместная наша сила смогла преодолеть все женские защитные сооружения, так атомный взрыв без усилий сметает укрепления, рассчитанные на обычную бомбардировку.
Поднимаясь за ним по узкой лестнице, задевая канистрой светло-синюю стену, я посматривал на его ягодицы, вспоминая как поднимались и опускались они, гладкие и безволосые в то время, как губы девушки ласкали мой член. С каждой ступенью дыхание лишалось для меня обычной своей привлекательности и становилось все менее приятным. Воздух наполнялся горькой влагой, как будто жидкость, просачиваясь сквозь пластик, заполняла все вокруг своим мягким ароматом, зловонным, намекающим на хранящуюся под ней манящую свежесть. Удобренная тысячами утопленников, она должна была быть нестерпимо плодородна, служа местом зарождения самых удивительных чудовищ, подобно озеру русалок, устроенному недалеко от сего города. Недоумевая, из какого далекого моря, высыхающего или с порочной жадностью вбирающего в себя испражнения заводов была доставлена она, я бросал на нее быстрые взгляды, опасаясь, что блеск на ребристых гранях канистры остановит меня, я видел в ней подвижные живые тени, тонких плодородных рыб, способных пробраться в анус, доставив немало удовольствия, а затем скрыться в глубине тела, истончившись и спрятавших в артериях и венах, благородных пиявок, всегда оставляющих крови ровно столько, сколько хватало жертве для благополучного достижения госпиталя, но выпускающих в нее паразитов, по ночам вовлекающих несчастных в слезливые мечтания о гнилистых болотах, крошечных рачков, первый после укуса которых ребенок родится у женщины гермафродитом.
Вынужденный останавливаться, ставить канистру на раскалывающиеся от желтой страсти плитки, перехватывать руку, вновь совершать несколько шагов, с каждым разом делая все большие промежутки между ними, я проклинал великолепную случайность, приведшую меня к тем распутным страданиям. Камень или мертвое тело подобного веса я поднял бы без труда, но эта вода казалась мне смертельным ядом, радиоактивным веществом, близостью своей дарившим мне молочную слабость, подвергавшем опасности неведомых неизлечимых болезней. От нее следовало как можно скорее избавиться, а до тех пор, пока этого не произойдет, как можно меньше дышать. Отвернувшись от канистры, глядя на деревянные зеленые перила, я поднялся на еще одну ступень. Соратник мой был уже намного выше, он уже остановился, я слышал, как его ноша ударилась о плитки илистым дном, а мне предстояло преодолеть еще один проем, что виделось деянием столь же безумным, как попытка поймать голыми руками лавового червя. Нисколько не жалея меня, он ожидал моего прибытия, хотя мог бы спуститься и помочь, зная о моей слабости. С надменной ухмылкой наблюдал он за тем, как я, задыхаясь, поднимаюсь к нему и мне подумалось, что таким образом он исполнял месть. От меня общая наша спутница пережила три тысячи восемьсот девяносто два оргазма, от него же почти на тысячу меньше. Выпустив канистру из рук, я с ужасом наблюдал, как она, стукнувшись дном, упала на бок, покачнулась на краю верхней ступени, угрожающе накренилась, булькая и колыхаясь. Бросившись к ней, я подхватил ее обеими руками, понимая, что не смогу теперь даже поднять ее, помогая ногой поставил ее рядом со второй, прислонился к перилам, вцепившись в них обеими руками, изо всех сил сжимая губы, не позволяя себе дышать ртом и издавая при дыхании такой шум, как будто мне снова довелось оказаться в присутствии жесткокрылого фантома.
Рыжеволосому пришлось дважды нажать на покореженный квадрат звонка, черную его немоту и еще минуту ждать, опираясь на стену, поставив правую полусогнутую ногу на сбитый носок потертой грязной туфли, покачивая левой рукой, как готовящийся к жонглированию цирковой артист. Тяжело вздрогнув, с пугливым лязгом освободившись от замка, массивная, обитая пятнистой выцветшей кожей дверь медленно открылась и мне стоило немалого труда устоять перед горячим зловонием, набросившимся на меня так, словно в течение многих лет желало оно пробраться внутрь моего тела, раздвинуть мои губы, протечь сквозь мои ноздри, густой пенистой тишиной залить мои легкие и смеяться, глядя, как я захлебываюсь, как текут слезы из моих глаз, оскорбленных чужим наслаждением. Вслед за ним из темноты выбралась неповоротливая, влажная, мягкая, скользкая фигура, немедля опознанная мной как одно из тех существ, чье присутствие в этом городе казалось мне лишним, о ком я чаще слышал от других и видел на экране телевизора, чем встречал лично. Появившись несколько лет назад, выйдя из моря на пляжи и заявив о себе громкими криками, они постепенно расползлись по городу, найдя работу в канализационных службах, планомерно увеличивая свой словарь, превращая неясные звуки в различимые слова, помимо нашего языка создавая свой и, как говорили мне университетские знакомые, делая первые попытки обрести письменность. Лишь дважды мне встречались те твари и случилось то, когда я бродил ночью по городу. Наблюдение за тем, как они, мерцая светящимися браслетами, суетились возле старых, покосившихся ремонтных машин, заползали в открытые люки, гортанно перекрикиваясь, бряцая инструментами в огромных, неловких, перепончатых руках, с потаенной ненавистью взирая на все вокруг, занимало меня на долгое время, представая непонятным театральным действом, разыгрываемым, дабы скрыть происходящую за пределами зрительного зала революцию.
Не отнимая пальцев от перил, царапающих кожу крошечными шипами, я наблюдал, как грузное темное тело приближается к нам из влажной темноты. Совершая короткие и быстрые вдохи, спасающие от илистом смраде, я не шевелился, боясь вспугнуть удивительное, неприятное, чуждое всему привычному существо. Цепляясь за стену левой рукой, оно нависло над порогом, перевесилось через него, хлопая широко открытым ртом с редкими в нем зубами, уставившись на моего соратника близко посаженными круглыми глазами. На коже существа, лишь слегка тронутой влагой, я различил белесые пятна корост, сухие воспаленные пустоши язв, вспухшие вулканы желтоватых гнойников. Перепонки между его пальцами порвались, лишенные ногтей пальцы подергивались, скользили по стене, по сморщенной белой краске двери. Увидев нас, тварь захрипела, из круглого рта донеслись звуки, едва ли способные убедить меня в ее разумности, громоздкая голова опустилась, что я невольно счел признаком возможной агрессии, но спутник мой, лукаво ухмыляясь, оттолкнулся от стены, положил руки на талию, уцепившись большими пальцами за широкий ремень, кивнул на канистры. Медленно опустив голову, тварь захрипела, забулькала, как утопавший, спасенный и не желавший того. Руки ее протянулись к пластиковым емкостям, неторопливо, сонно, словно вырастая, удлиняясь по желанию владеющего ими, возникая из-за двери с ощущением колдовской угрозы. Солнце растирало по ним светлые полосы, из-за которых кожа его казалась еще более чужеродной и больной. Находясь на расстоянии многих миллионов лет эволюции от тех существ, я мог чувствовать только жалость по отношению к ним в подобные моменты, когда видел, сколь несчастны они, отчаянно пытающиеся имитировать нашу жизнь, выполняющие нашу работу, занимающие наше жилье и все же примитивные и нелепые, немыслимо далекие от всего, что могло считаться современной цивилизованностью. В другие моменты, когда кто-либо из тех тварей перегораживал мне дорогу, пытался втиснуться в забитый вагон метрополитена, источая обычный свой доисторический смрад, смущая все во мне своей окаменевшей глупостью, презрением к мышлению, отсутствием уважения к чему бы то ни было живому, я был готов, подобно многим моим знакомым, взять оружие и отправиться с вечерним патрулем отстреливать тех, кому никогда не следовало покидать морского покоя. Причины, по которым они совершили сей побег, оставались неизвестными. Некоторые полагали, что их вынудило загрязнение океана, недостаточно сохранившего пищи для этих существ, мутировавших под воздействием тех же причин, другие считали, что мы наблюдаем разведывательную миссию, отправленную перед тем, как начнется полномасштабное вторжение и требовали снарядить подводные лодки такими боеприпасами, которые могли бы найти и уничтожить скопления или города этих тварей, если имелись они где-либо на дне. Большинство же молча ненавидело их, ничего не предпринимая и лишь обвиняя остальных в безразличии.