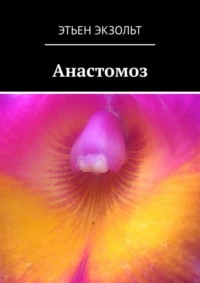Полная версия
Сердца наши золотые, инкрустированные бриллиантами
Через тридцать пять страниц она устала от океана. Слишком рано, по моему мнению. Тяжело дыша, разбрызгивая вокруг соленые капли, она бесшумно упала на песок рядом со мной, радостно улыбаясь, как будто вернулась с удачно завершившегося, не предложившего изнасилования свидания. Несколько капель попали и на книгу, буквы расплылись, отравленные пренебрежением, удрученные изменением смысла, потерей порочной связи с прочими. Растерянно кривя губы, я смотрел на них, став свидетелем гибели мира, ничего не способный предпринять в связи с тем, не имея возможности ни остановить ее, не желая даже потворствовать ее увлечениям. Отложив книгу подальше от девушки, дабы предотвратить дальнейшее уничтожение, я сложил на груди руки, я вздохнул, пытаясь справиться с раздражением, вызванным прежде всего тем, что мы проводили время так, как было то ей угодно. Мокрые волосы, потеряв пышность свою, обвисли над ее лицом, белые песчинки и обрывки красных водорослей застряли в них икринками усталого конфетти. Улыбчивая утопленница, она сидела, перебирая руками пьяный шепот песка, прилипавшего к ее пальцам, превращая их в свидетельство редкой и нескромной болезни, забиравшегося на ее ноги, разбредавшегося по бедрам в стремлении полностью подчинить себе девичью неуступчивость. Вытянув придавленную моей ногой пластиковую бутылку, она сделала несколько глотков из широкого горлышка, забавно приподнимая голову, закрывая глаза, придерживая левой рукой дно. Прилипшая к левой щеке прядь извивалась от виска к углу глаза, опускалась, выворачиваясь, разбиваясь на отдельные волоски, почти добираясь до губ, останавливаясь в почтительной близости от них и влажно при этом поблескивая. Ресницы ее дрожали судорогой ведомого на казнь, капельки пота увечили собой лоб, купальник с еще большей страстью прижимался теперь к ее телу, но я не испытывал вожделения, вид мокрой ткани, облегавшей ее груди и неприметный лобок не возбуждал меня, уставшего и подозревающего, что и весь оставшийся день будет таким же неприятным. Невдалеке от нас остановился черный полицейский автомобиль, выбросивший из себя толстого офицера, недовольно посматривавшего вокруг, потирающего кобуру на поясе так, словно была она больной частью тела. Закрыв дверь потускневшей от вида катастроф и преступлений машины, он медленно побрел по пляжу, неустанно поправляя фуражку, ладонью стирая со лба, щек и висков пот, глядя на окружающее с нескрываемой злобой, поглаживая обвисшую вдоль левого бедра резиновую дубинку. Вынужденный по воле требовательного распорядка приехать сюда в жаркий день, сразу после полудня, вышвырнуть грузное тело в плесневеющий зной, испачкать одежду в песке, а обувь в испражнениях рептилий, он намного больше хотел вернуться в городскую прохладу, где мог бы сидеть в машине или кафе, обсуждая с другими бездельниками исход спортивных событий. С тех пор, как несколько месяцев назад на этом пляже было изнасиловано несколько женщин и детей, полиция обратила на него внимание, патрулируя песчаную гряду до позднего вечера, беспокоя ящериц и мешая им совокупляться. Пройдя мимо разлегшейся с обнаженной грудью старухи, старательно отворачиваясь от вида сморщенной плоти, миновав веселящихся мужчин, облизнувшись на мальчика, обмазывавшего теперь мокрым песком грудь девочки, полицейский приблизился к нашему расположению. Встав в шаге от моего шезлонга, он положил руки на пояс, позволяя мне видеть на его черной рубашке еще более темные пятна, растекшиеся под руками, возле воротника и на животе и замер, поводя губами и раздувая ноздри. На его коротком, вздыбленном носе взгромоздились золотисто-зеркальные солнцезащитные очки, так неподходящие широкому лицу, последний раз он брился дня три назад, что только добавляло ненужные детали к общему ощущению неряшливого пренебрежения.
– Что вы здесь делаете, молодые люди? – было легко заподозрить, что мы стали целью его, как только он выбрался из машины. У меня не возникло сомнений в том, что его привыкшие к созерцанию безграмотного отребья глаза, пользуясь зеркальным прикрытием, смотрели на мою девушку, изучали ее с похотливым пристрастием.
Согнув спину, она сидела на коленях, поставив бутыль на песок, опираясь на нее правой ладонью, подняв голову и сощуренными глазами глядя на него, недовольная самим его присутствием здесь.
– Мы отдыхаем. – голос ее показался мне неосмотрительно дерзким, она откинулась на выпрямленные за спиной руки, подставляя ему все свое тело, выгибая спину так, что соски расплющились под мокрой тканью.
– Вы вместе? – в хриплой горечи того вопроса слышалась вздувшаяся ярость потерянного одиночества.
– Уже больше года. – произнеся то с непонятной мне гордостью, она дернула головой, отпугивая краснотелую муху.
– Могу я увидеть ваши документы? – требовательная рука протянулась в мою сторону. От поразительного того произвола холодная дрожь пробралась к моим вискам, но я не имел намерения ни противоречить ему, ни упрекать в превышении власти. Сев на шезлонге, я достал из кармана аккуратно сложенных брюк покусанную носухами и Снежаной пластинку паспорта и отдал полицейскому. Даже если бы вздумалось ему проверить данные обо мне, он не нашел бы ничего подозрительного. В отличие от большинства моих знакомых, я не состоял ни в какой милитаристической организации, не распространял листовок в поддержку живородящих, не проповедовал бесполые браки, не писал на стенах кладбища призывов к восстанию, ни разу не был замечен в непочтительном отношении к двоякодышащим. В определенном смысле, меня не в чем было упрекнуть. Но, взглянув на документ, мгновение взгляда уделив мне, как будто мог я оказаться таким глупцом и отдать ему документ с чужой фотографией, он оставил его у себя, выпростав руку к девушке. Всем своим видом демонстрируя скучающее возмущение, надувая щеки, сжимая в кулаки пальцы, она обошла меня, схватила свою сумку в виде кошачьей головы, достала из нее карточку ученического удостоверения, швырнула полицейскому, поймавшему ее с удивительной ловкостью.
– Ты же принадлежишь к тому же народу, что и твой отец? – карточка похотливо прижалась к моему паспорту. Сомнение его было мне понятно. Из-за того, что она рано лишилась девственности и пережила большее количество самых разнообразных совокуплений, чем многим женщинам удается к двадцати пяти годам, в ее глазах, выжженых тысячами оргазмов, обреталась соответствующая мудрая пустота, в движениях ее губ и бедер таилась многообещающая плотная радость, томительная завершенность, умелая и обращенная вовне гибкость, предназначенная для чужого благоволения. Во время спокойного разговора на далекие от плоти темы нечто неукротимое, ядовитое, шаловливое, могло проявиться в ее остановившемся на сжатой пальцами монете взоре, воплотиться в том, как, почти не касаясь стекла, пальцы ее огибали покрывшийся испариной от желания ее прикосновения стакан с фруктовым коктейлем и, заметив то, моя плоть отвечала бездумным, мгновенным, жалобным вожделением, неуместным и раздражающим.
Кивнув, она встала позади меня, сложив на груди руки.
– Вам придется проехать со мной. – довольно ухмыляясь, он спрятал наши документы в нагрудный карман, промокший от его пота.
– На каком основании? – поднявшись, я обнаружил, что он лишь немного превосходил меня ростом.
– Ее народ находится на грани исчезновения. Им запрещены внеродственные сношения. – при этом он завистливо ухмыльнулся.
– У нее есть документ от старейшин. – упреки о том, что моя близость с ней имеет неподобающие, граничащие с извращением причины давно уже стали для меня надоедливым обычаем.
– Вы плохо знаете законы, молодой человек, – сокрушенно качая головой, он сетовал на непопулярность тех уложений как вспоминают старики о популярных в их юности песнях. – У нее должно быть письменное согласие родителей на времяпрепровождение с вами. И она сама созналась, что имеет связь с вами больше года. За это время она уже могла забеременеть.
Обернувшись, я посмотрел на Снежану, стараясь сохранить в презрении моем то нежное обвинение, что позволит мне позднее насладиться ее чувством вины. Опустив голову, она нервно теребила пальцы, переступала с ноги на ногу, погружаясь по щиколотки в молчаливый песок.
Торжествующий полицейский указал мне на его машину. От грузной его плоти мне было бы легко сбежать. Наличие у него моего паспорта немногим могло помочь ему, я давно не жил по указанному в том документе адресу и даже не появлялся там. В этом городе, мечтающем о превращении в заброшенный лабиринт некрополя, мне было бы легко затеряться и у меня имелись знакомые, способные помочь мне в избавлении от возникших неприятностей, имевшие влияние в полиции и муниципалитете. Учитывая, что никаких существенных обвинений против меня не имелось и выдвинуто быть не могло, а родители девушки, несомненно, подтвердили бы согласие на ее общение со мной, я нисколько бы не пострадал. Беспокоило меня то, что на ней был только купальник, а появление в таком виде на улице города было, в свою очередь, нарушением закона и оскорблением общественной морали, да и бегала она намного хуже меня, быстро уставала и демонстрировала при этом намного меньшую выносливость, чем в постели. Сожалея о том, что не оказалось во мне решимости потратить деньги на мобильный телефон, я пришел к выводу о том, что наилучшим решением будет проехать с полицейским в участок, где и разъяснить ему или вышестоящим офицерам всю ситуацию, сделать пару звонков и тем самым сохранить видимость законности происходящего. Кивнув головой в сторону ее вещей, я подхватил свои, натянул футболку, сунул босые ноги в туфли и последовал за полицейским, глядя на его мокрую от пота, прилипшую к спине рубашку, успев заметить, как, сразу же после того, как мы ушли, из-под песка возле моего шезлонга появилась матовая голова ящерицы, озирающаяся в поисках случайно или намеренно оставленного для нее съестного.
В салоне автомобиля искристо пахло антисептиками, сквозь плотную стальную решетку я видел застрявший между передними сиденьями широкомордый дробовик, разбросанные по полу серебристые шкурки от шоколадок и презервативов, пытавшиеся в смятом соитии преодолеть видовые различия, разноцветными обрывками сна поблескивающие на сухой резине. Захлопнув за нами дверь, полицейский, хрипя, забрался на водительское сиденье и ему понадобилось немало времени, чтобы, ерзая, изгибаясь, поправляя одежду и подтягивая серебристые, с черными на них собачьими головами ремни, устроиться достаточно на нем удобно. Сидя позади офицера, я вынужден был вбирать все зловоние его, отягощавшееся сонной сладостью туалетной воды и пышной навязчивостью дезодорантов, должными сделать запах приятным, но употребленными в таком разнообразии и таком количестве каждый, что смешение их образовало аромат, многие миллионы лет не существовавший на этой планете, с тех пор, как иссохли болота, илистыми и скользкими берегами облегчившие первые шаги желающих обосноваться на суше существ. В этом гнилом смраде, густом, липком, горьком, резком, впивающемся в поры и забивающем их, рептилии самозарождались, ползли по коже, микроскопические, но готовые обрести исполинские размеры. Облегая кожу, он пробирался сквозь нее, проникал в кровеносные пути, достигал мозга и вынуждал мысли меняться, обращаясь к тому древнему, что могло быть скрыто как в сиюминутном воображении, так и в атавистических порывах, бесполезных органах, неупотребляемых образованиях, потерявших выгоду свою тысячи поколений назад. Стоило мне вдохнуть его, как я увидел ногти мои удлиняющимися, увеличивающимися в толщине, изгибающимися, превращающимися в слоистые когти, золотистая чешуя нарастала поверх кожи моей, я возжелал нерифмованной поэзии, героического эпоса, спасения мира, истории о самоотверженных подвигах, прославления труда и самопожертвования или чего-нибудь иного, но столь же примитивного, сырого мяса, изувеченной плоти, прохладной воды первобытного океана. Тряхнув головой, отвернувшись к истерзанному синими пятнами стеклу окна, я глубоко вдохнул, успокаивая себя, возвращая себе обычный свой мир. Автомобиль медленно тронулся и полицейский, проявив чудесное милосердие, опустил стекло, не желая включать кондиционер, за что я неслышно его поблагодарил. Повернув голову, я мог теперь дышать, глядя на узкие припортовые улицы, пытаясь понять, куда именно мы едем. Задержав дыхание, я повернулся к Снежане, смотревшей вперед, вцепившейся пальцами в шаткую решетку, выглядевшей вполне довольной поездкой и даже наслаждающейся столь необычным перемещением. На приборной панели поблескивала стальная крышка заполненного синеватой жидкостью ароматизатора, мерцали зеленые цифры рации, сам полицейский что-то бормотал себе под нос, ведя разговор с недовольным собеседником. Включив проблесковые огни, мы проезжали на красный сигнал светофора, а однажды, когда маленький белый автомобиль не захотел пропускать его, офицер даже прикоснулся к кнопке сирены и та угрожающе взвыла, вынудив несчастного метнуться к обочине, едва не задавив при этом намеревавшуюся перейти улицу женщину. Повернув в сторону от ведущих к центру города дорог, мы проехали сквозь арку под неизвестным мне мостом, согнувшимся от множества грузных на нем скульптур воителей и чудовищ, замедлили скорость, совершили еще пару медленных и крутых поворотов, после чего вползли на пустырь, огородивший себя остовами большегрузных автомобилей, угловато устаревших, наполовину разобранных, лишившихся колес, дверей, стекол, капотов, обреченно ожидающих, пока будет извлечено оставшееся в них, обнажившиеся их ржавеющие уродливые двигатели, тяжелые трубчатые наросты, обвисшие щупальца разноцветных проводов. В этой кунсткамере механических чудовищ, мертвых казусов коммерческой мысли, тоскливо коротающих солнечные дни в потворствовании сыпучему разложению и находящих свое призвание в служении тенью для бродячих кошек, полицейский остановил автомобиль, выбрался из него, кряхтя и сквернословя, хлопнув дверью так, что машина покачнулась, открыл ту, что находилась с моей стороны, выпуская нас, но позволяя мне понять при этом, что о свободе нашей не может идти и речи.
– Слушай меня. Ты не знаешь законов. Если я сейчас доставлю тебя в участок, то тебе не помогут ни ее родители, ни она сама. В прошлом году все изменилось. Слишком много развелось таких, как ты. Теперь вас сажают сразу, без разбора. – слова его торопились, боясь одышки и несомого ею затишья, глаза наполовину закрылись, отдавая все силы губам и языку.
Схватив меня за руку, Снежана сжала ее со всей своей силой, отчего мне пришлось стиснуть пальцы в кулак для равновесия. Уже дважды меня угрожали засудить за близость с ней, но в первый раз опасность исходила со стороны отвергнутого ею мужчины, а во второй – от ее отца. И только раннее обвинение обрело воплощение свое. Закон оказался на его стороне и даже то, что девушка готова была засвидетельствовать отсутствие какого бы то ни было принуждения с моей стороны, не имело значения перед его безрассудным могуществом. Вмешательство любовника моего брата, победителя множества соревнований по нескольким видам единоборств и трех его не менее увлеченных теми видами спорта приятелей убедило престарелого ловеласа отступить.
– Тебе предстоит провести в тюрьме лет пять, я думаю. – полицейский облизнул свои пухлые темные губы.
– Что ты хочешь? – все было уже ясно, иначе он сразу отвез бы нас в полицейский участок.
– Пусть она мне отсосет. – но смотрел он при этом на меня, как будто не возражал бы против того, что я сам совершил то.
Оказавшись за моей спиной, совершив движение инстинктивное и быстрое, девушка прижалась ко мне так, что я почувствовал ее дрожь.
– Если ты не сделаешь этого, то пять лет не сможешь сосать своему женишку. – полицейский смотрел поверх моего плеча, как будто надеялся ее увидеть.
– Она не станет. – отступив на шаг, я едва не упал, наступив на ее ноги.
– Тогда готовься. Ребята в тюрьме будут рады. Они считают таких, как ты насильниками. – ухмыльнувшись, он уцепился большими пальцами за свой широкий ремень из старой, выцветшей кожи.
– Я должна. – всхлипнув, Снежана сделала шаг в сторону.
– Не вздумай. – сквозь сомкнутые зубы прорычал я, но полицейский метнулся ко мне, толкнул меня так, что я отлетел назад, едва не упав, схватил за руку девушку и потянул ее к себе. Поджав пальцы, я приготовился, вспоминая все, чему мой брат учил меня, но в глаза мне уставилось дуло пистолета и мне пришлось остановиться. Полицейский крупнокалиберный «Мангуст», легкий пластиковый механизм, отличался небольшой скоростью пули, намерением его было остановить, но не убивать меня и, помня о том, как много произошло в последнее время скандалов, связанных с совершенными полицией убийствами, я мог полагать, что находятся в обойме призванные травмировать патроны, по чьей вине я буду страдать еще многие месяцы, если не годы. От моего брата мне доводилось слышать, что он предпочел бы подобной травме ранение из штурмовой винтовки, но я считал то заявление глупостью и бахвальством. Приподняв руки, я замер, пристально глядя на полицейского, бросив взгляд на часы, отметив время, посмотрел на его машину, запоминая ее номер, намереваясь впоследствии использовать все это для увлекательной мести.
Левой рукой он держал Снежану, привлекая ее к себе, ухмыляясь с счастливым азартом религиозного фанатика, уничтожившего церковь иной веры. На мгновение ему пришлось отпустить купальщицу, с нищенствующим звоном расстегнуть ремень, пуговицу брюк и их молнию. На все это ему потребовалось немалое время, но она не сделала попытки убежать, она стояла, покачиваясь, опустив голову, прикрыв лицо все еще мокрыми волосами, сгибая и выпрямляя пальцы, царапая ногтем указательного подушечку большого, а его ноготь вонзая в безымянный. Офицер нащупал свой член и тот появился из ширинки мертворожденным лысым грызуном, морщинистым, темным, маленьким, жалким, невосполнимо прожорливым. Схватив руку девушки, полицейский положил ее на эту бесстрастную плоть, сжал свой кулак поверх ее пальцев, пошевелил им, покусывая губы. Пистолет его был направлен на меня, находясь более чем в двух метрах от моей головы, не было никакой возможности для меня преодолеть это расстояние так, чтобы он не успел отреагировать на мое движение, выстрелить, ударить меня или иным способом причинить мне вред. Глубоко вдохнув, я посмотрел себе под ноги, надеясь увидеть камень, но имевшиеся неподалеку от моих туфель были столь малы, что едва ли могли превратиться в оружие. И все же я решил присесть, попытаться незаметно взять хотя бы один из них, надеясь, что с его помощью мне удастся отвлечь на мгновение внимание полицейского и этого будет достаточно для мученического побега. Вырваться на улицу, возопить о помощи, имея возможность получить ее как от других полицейских, так и от любого из тех, кто презирал их или испытывал желание с ними поквитаться. После недавних столкновений таковых имелось немало и я не сомневался, что они с радостью воспользуются возможностью расправиться с одним из ненавистных служителей закона. Но как только мои ноги стали сгибаться, ствол пистолета чуть покачнулся, не позволяя мне того. В новом ограничении я мне оставалось только смотреть на девушку и надеяться, что она догадается, как возможно причинить полицейскому несущую забвение всех похотливых мечтаний боль.
Мягкими, неуверенными касаниями не умеющей играть на музыкальном инструменте, но восхищенной его клавишами из носорожьей кости развратницы двигались по его плоти пальцы Снежаны, голова ее была все также опущена, слипшиеся пряди тяжело качались, босые ноги переступали, стараясь найти безболезненное место среди острых камней. Стоило ей посильнее сжать, вонзить длинные ногти в напрягающуюся, обретающую силу плоть, нанести один удар, уронивший бы полицейского и она смогла бы освободить нас, что должно было быть легко для нее, всегда считавшей себя сильной и что она должна была сделать, как только он перед ней обнажился. Вместо этого рука ее продолжала ласкать утвердившийся член, распрямившийся, но не обретший и двух третей длины принадлежавшего мне как недостойному последователю отца и брата. Решив, что она должна быть разочарована, я вместе с тем испытал и некоторую гордость от величины собственного органа, немедленно подавленную мной ввиду несоответствия обстоятельствам.
Губы полицейского разошлись, дыхание обрело в себе смиренную тяжесть, пистолет едва заметно дрожал от упоения неизбежным. Положив руку на плечо Снежаны, он надавил, заставляя девушку опуститься на колени и мне стало жаль ее, я представил, какую боль должна была испытывать она, когда камни впивались в ее преклоняющуюся перед царапинами бледность. Медленно, с трудом сгибая непослушные ноги, она заняла требуемое положение, не обращая, как показалось мне, никакого внимания на воображаемое мной страдание, быстрым и ловким, осторожным жестом, как будто отгоняя поразительной красоты бабочку, откинула назад волосы, закрыла глаза и широко открыла рот.
– Не делай этого. – голос мой показался мне самому поразительно неприятным, пригодным только для объявления списка пропавших без вести. Приняв неизбежность, я смирился с ней, обрел напряженный, отстраненный покой, в котором осознание происходящего было лишь самым тонким поверхностным слоем, старой кожей, давно требовавшей сбросить ее, ибо яркая окраска только привлекала невоздержанных хищников. Намного глубже располагалось осмысление восприятия, взгляд на себя осознающего и совершающего вместе с тем бесчисленное количество ошибок. И еще дальше находилась молчаливая, благозвучная, напряженная темнота, неиссякаемый источник силы, позволявший мне не только расслабить пальцы и успокоить дыхание, но и допустить жизнеутверждающе отрешенную улыбку на свои губы. Неизбежность отмщения была очевидной для меня, несчастный полицейский не имел представления, с чем ему придется столкнуться, а все происходящее позволяло мне произвести в будущем такое количество выглядящих справедливыми упреков, что уже одни только они выглядели достаточной наградой за пережитое.
Приблизив свой тонкий член, поросший до середины густыми волосами к ожидающим губам Снежаны, полицейский провел по ним маленькой, красноватой его головкой, приплюснутой и почти не выступающей над стволом, после чего отвел ее назад и ударил по носу девушки, рассмеявшись при этом так, как будто воплотил некое остававшееся многие годы потаенным желание. После этого, сосредоточенно замолчав, он поместил член между немедленно сомкнувшихся на нем губ. Покорность девушки удивила меня, ибо иногда она, вопреки всем клятвам и обещаниям, отказывалась делать требуемое мной, производя тем самым непереносимое оскорбление. Нужно отдать ей должное, что я никогда не оставался неудовлетворенным и вид ее недовольно сощуренных глаз, ее превозмогающее молчаливое пренебрежение, резкие звуки, доносившиеся из ванной, когда она смывала последствия наших развлечений, мрачный ее шепот, скрытый, как полагала она, шумом воды, лишь усиливали мои вожделение и удовольствие. Вцепившись руками в брюки полицейского, сжимая их ставшую цветастой по вине маслянистых пятен ткань, она ритмично и размеренно водила губами по его члену, не допуская, впрочем, ни одного из обязательных в общении со мной изысков. Не погружая его глубоко, довольствуясь лишь головкой, она совершала движения слишком однообразные и презираемые мной, явно не использовала язык и не собирала, как я то любил, горячую слюну во рту, иначе та текла бы уже по ее подбородку. Веки ее подергивались, словно покусывали их непристойные видения, глаза двигались под ними не желающими лун мирами и выглядела она более сосредоточенной, чем в минуты подобного действа со мной, что можно было понять, ибо мои предпочтения и особенности, привычки и пристрастия уже давно были известны ей, тогда как сейчас она имела дело с незнакомым мужчиной, для которого они могли быть совершенно иными. В ней не чувствовалось старания, она делала все так, как в дни наших ссор, не отменявших моего семяизвержения, превратилась в высококачественный механизм удовлетворения, почти неотличимый от живой женщины, но бездушный и безответный. В окружавшей нас ржавой тишине торжествовал сквернословящий птичий свист с окружавших пустырь деревьев, победным восторгом загремел продавленный ржавым ударом капот машины, когда на него спрыгнула белая, с рыжими пятнами, кошка, любопытно взглянувшая на происходящее и подарившее мне страх о том, что она может пораниться об осколки лобового стекла, если вздумается ей забраться в салон автомобиля. Мир был спокоен и почти что беззлобен, потаенная его чистота была так близка, что любой неосторожный вдох мог открыть ее, но никто из нас не был готов к ней и я, способный освободить ее, предпочел оставить все таким же, каким оно было до меня, надеясь, что когда-нибудь настанет достойное чудес время.
Пистолет вздрогнул и медленно опустился, полицейский замер, выгнулся, запрокинув голову и едва не роняя фуражку, левая рука его опустилась на голову девушки. Напрягшись, она тяжело сглотнула, отцепившись от его брюк, беспомощно сжимая в кулаки дрожащие руки.