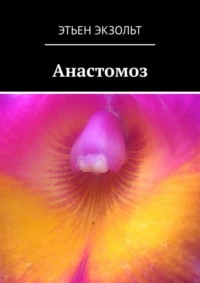Полная версия
Сердца наши золотые, инкрустированные бриллиантами

Сердца наши золотые, инкрустированные бриллиантами
Этьен Экзольт
© Этьен Экзольт, 2018
ISBN 978-5-4490-9048-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Смерть ящерицы считалась в моей семье счастливым предзнаменованием.
Происходившая из родных земель моих предков, блудливая сия примета давно уже лишилась необходимости в намеренном воспроизведении ее, ведь почти не осталось в мире мигрирующих рептилий, да и разносимая ими чума напоминала о себе только треугольными следами от вакцинирующих инъекций на наших бедрах. И все же, каждый раз, как случалось мне увидеть мертвую ящерицу, я смущенно улыбался, извиняясь перед ней за грядущую свою удачу.
Краснокрылый геккон, отвлекший меня от чтения, не желавший стать добычей летучей пираньи, ударился об оконное стекло, оставив на нем темную карту высыхающих островов и упал на истерзанный подоконник, сотрясаясь, выбивая в воздух коричневые споры ржавчины, угрожая заразить ею металлическое ограждение балкона. Преследователь его, извернувшись тяжелым темным телом, возмущенно заурчал, не имея намерения приближаться к моим чертогам, на несколько мгновений завис, лениво поводя размашистыми крыльями, а затем, презрительно лая, несколькими порывистыми прыжками исчез в переливах алмазного солнца.
Раздумьями своими совершая радостное вторжение в неистовое утро и кричащую улицу, я сидел на растертом красными ромбами широком сером диване, служившем мне ложем уже много лет. Осматривая комнату и признавая в ней нестерпимую солнечную тишину, щурясь от приливного света, прислушиваясь к доносившимся с улицы голосам и обрывкам сотрясающих тело ритмов, выплевываемых торопливыми автомобилями, втягивая воздух расширившимися в предчувствии добычи ноздрями, я готовил себя к новому безжалостному дню.
Узрев благоволящую для меня гибель, я потянулся, выпрямил босые и грязные ноги, резко поднялся, поводя плечами в дуновении прохладного ветерка. Схватившись за открытую дверь, вцепившись пальцами в ее шероховатое, рассыпающее хлопья белой краски дерево, я выглянул на балкон, бросил взгляд вниз, на крышу синего автомобиля, блеснувшую стеклом люка, улыбнулся ярким зеленым птицам, исступленно вопившим на дереве, упиравшемся ветвями в мои окна. Если бы у меня было столько желаний, сколько есть птиц в этом мире, я бы чувствовал себя богом. Ящерица лежала на мятом хребте ржавого железа, подставив матовый живот последнему своему соглядателю, подергивая мягких очертаний крыльями в мутных оранжевых пятнах, высунув язык, истекая кровью из широко раскрытой пасти. Следовало бы убить ее, прекращая страдания несчастной твари, но в тот час у меня было недостаточно гнойников для милосердия.
Вздохнув, я вернулся в комнату, зевнул, осматриваясь, заметил раскрытую книгу, лежащую на полу, присел, прочитал пару страниц о различии способов, которыми гусеницы превращают себя в куколку, обматываются нитью шелковины, прячутся в выеденные ими хитиновые остовы других насекомых, скручивают старые листья, устраивая уютное логово. Книга, написанная более двух веков назад, многое хранила устаревшим и неверным, но именно в этом и заключалось для меня очарование ее, в великолепных неточностях, утверждавших красоту ошибки, в многословных описаниях удивительных видов, имеющих сходство с существующими в настоящих времени и пространстве, но в то же время обладающих и достаточным количеством различий для сомнения в том, идет ли речь об одном и том же существе, лишь изменившим название и точность изображения. Действительность, исчезавшая в солнечном безумии, казалась как никогда более привлекательной, когда взор мой касался тех строки потому я с наслаждением внимал им, позволяя ломкой улыбке порочить мои губы. Книга насчитывала всего пятьсот страниц и я берег их, не позволяя себе чтение более десяти за один день. То было сокровище моего лета, дарующее мне силы и храбрость пережить беспутный зной и я не намеревался потратить все драгоценности за неделю. Впервые в жизни я был благоразумен и спокоен, мало что могло служить причиной для моего волнения, и если и была возможность для меня быть счастливым, то я приблизился к ней настолько, насколько было то возможно.
Закрыв книгу, я вдохнул в себя порыв ветра и тот замолк, весь оставшийся в моих легких. Тряхнув головой, избавившись от солнечных знамений, я поднялся и вошел в темный коридор, длинный и пустой, поблескивающий мерцающими неровными стенами, как если бы сокрыто было в них радиоактивное сокровище, уныло гудящий сокрытым в нише возле двери счетчиком электричества, заунывным тем шаманом, дарующим мне потустороннюю силу. Сквозь щели между входной дверью и рамой я почувствовал влажный аромат подъезда, скользкий привкус ненасытного лета, уличных страданий и бетонного страха. Пальцы мои дернулись, сжались, согнулись от неприятного возбуждения, готовившего меня к жестокости неведомых столкновений и это неумелое предсказание вызвало во мне раздражение, требовавшее немедленного от него избавления. Повернув направо, я сделал несколько шагов, еще раз совершил подобный поворот, прошел мимо никогда не закрывавшейся двери в уборную и оказался на кухне, где увидел девушку стоявшей спиной ко мне, напевающей неизвестную мне песню, пританцовывающей и покачивающей узкими бедрами. В правой руке она держала керамический нож с черной пластиковой рукояткой и того же цвета лезвием, обросшим голографическими орхидеями. Мраморный сыр поддавался его хрупкому лезвию, опадая прозрачными пластинками ороговевших вожделений. Осторожно подобравшись к ней, почувствовавшей мое присутствие и слегка напрягшейся, я резким рывком прижался к ее телу, обхватывая руками тонкую талию, впиваясь в отзывчивую плоть.
Единственным, что мне нравилось в ней, были ее груди. Не очень большие, лишь немного не помещавшиеся в моей ладони, приятно не имеющие различий между собой, в равной мере сочетавшие упругость и мягкость, умилительно округлявшиеся, когда одежда или белье сжимали их и обретавшие в том дополнительное очарование, они были для меня достаточным вознаграждением за все отвратительное в ней, за мягкую ее посредственность и сладкую легкомысленность, стремление убедить все мироздание в том, что она была, несмотря на всю имевшуюся в ней и возбуждавшую меня мерзость, существом чистым и непорочным и, более всего, за присущую ей сосредоточенность на страдании, которую она с неизменным удовольствием принимала за трепетную чувствительность.
– Мне снились гиены. – повернувшись ко мне, она улыбалась, прядь волос падала со лба, закрывая ее левый глаз, лаская бледные губы, но пальцы мои, обретшие судорожную независимость друг от друга уже искали тьму и никакие слова уже не могли их отвлечь. С трудом освободив правую руку, я бросил ее вниз по животу девушки, натолкнулся поспешными пальцами на пуговицу джинсов и вырвал ее из петли, скользнул под жесткую ткань, стягивая ее с мускулистых ягодиц, просовывая между них средний палец.
– Осторожнее. – покачнувшись, она извернулась, сжалась, решительно меня отталкивая, возмущенная и яростная.
Подозрение ее показалось мне оскорбительным. Нарушить установленное мной самим ограничение я мог бы позволить себе только возлюбив огнестрельное. Левая моя рука лишила хватки своей скорбную плоть и резким рывком сдернула до колен брюки девушки, сдвинула в сторону черный шелк, освобождая прикрытые густыми волосами губки. На мгновение оставив ее, сжавшую побелевшими пальцами край стола, я торопливо обнажил свои бедра. Собрав во рту свою горькую слюну, я выпустил ее на подставленные ладони, куда она, густая и мутная, потянулась ядовитым водопадом, растер ее по своему подрагивающему от презрения ко всему сущему члену, правой рукой направил его, левой поглаживая прохладную гладкую ягодицу и уже через мгновение он был в самой скучной из возможных глубин.
Чуть склонившись над столом, она упиралась теперь правой рукой в желтую стену возле окна. В увлечении ритмичными движениями, обеими руками держась за выпирающие, острые пределы ее бедер, я не забывал размышлять о стечении обстоятельств, вынудившем меня к подобному времяпрепровождению. С тоской думал я об оставшейся на полу книге, о шипящем на столе портативном компьютере, грезил его покрытом пылью и пятнами экраном, проявлявшим страницы незаконченной работы и любое другое занятие, кроме того, которому предавался я, казалось мне достойным и приятным. Плоть налагала на меня свои требования, обязывала к представлениям об удовольствии и я покорно следовал им, не имея возможности сопротивляться, ибо попытка того была лишь признанием ее увлекательной власти. Уподобившись мудрому рабу, я покорялся с ироничной улыбкой, обнаруживал в подчинении рассудительное потворствование гармонии мироздания. Покорно вкушал я все его прелести, скривив губы получал все его награды, успокаивая себя лишь тем, что в представлении своем обретал черты героев, знающих о смертельной опасности и все же следующих к ней, ведомых необходимостью и долгом.
Узкое жадное влагалище стиснуло мой член, девушка игриво вильнула ягодицами, прижимаясь ко мне, полностью погружая меня в свое непотребное тепло и я двигался, чувствуя, как тестикулы трутся о резинку трусов, сжимая обеими руками ее груди, стискивая между пальцев твердые соски, щурясь от яркого солнца и пересчитывая оставшиеся у меня деньги. Не желая доставлять ей удовольствие, ибо таков был наш уговор на той неделе, я уже через минуту отступил. Повернувшись ко мне, отбросив волосы с лица, она укоризненно покачала головой, стряхнула с ног джинсы и направилась в ванную.
Посреди стола она оставила чашку с разлетающимися от маленькой ручки прочь по белому фарфору разноцветными колибри, лукаво поблескивавшую цветочным чаем. Вкус того напитка всегда казался мне отвратительным, я находил его отпугивающим мечтания, но жажда была слишком сильна, как всегда случалось со мной после совокупления или мыслей о тиграх. Глядя за окно, на расположенный через улицу дом, на толстого мужчину в белой майке, курившего на балконе, я пил этот сладкий морок, вынуждающий меня чувствовать слишком твердым позвоночник, прислушиваясь к тому, как грезит, разбиваясь о металл, вода, и девушка напевает песню о плотоядных цветах, которой узнала от меня вчера. Когда она вернулась, чашка была уже пуста. Схватив обильно продырявленный кусок сыра, она вцепилась в него маленькими своими, успокоительно неровными зубками, обнаружила отсутствие как пустоту, бросила на меня уничижительный взгляд, схватила с подоконника пластиковую бутылку, в которой оставалось еще немного выпустившей весь газ минеральной воды и сделала пару быстрых глотков.
– Я опаздываю. – выскочив из кухни, она проскользила босыми ногами по прихожей, вбивая в бесчувственное утро хлесткие шлепки суеты. Гневным переломом загрохотала дверца шкафа в ее спальне, что-то стеклянно упало, высекая раздраженные вогласы. До того, как она оказалась готовой к исчезновению, я успел съесть два куска холодного сыра, довольствуясь им в качестве обычно избегаемого завтрака. Только когда замерцала, отрицая светоносное страдание, лампа в прохожей, я вышел к ней, придавил спиной создающую ванную комнату дверь, глядя сквозь весь длинный коридор, наблюдая за тем, как, в свете тусклой нити, царствовавшей под грязным потолком, девица моя, опираясь левыми пальцами на неровную желтизну стену, в правой руке держа свою маленькую черную сумочку, пыталась попасть ногами в босоножки на высоком стальном каблуке, приобретенные мной еще во времена ее почитания. Капли спермы падали с моего только сейчас и начавшего обмякать члена, выжигая кольца шрамов на неровных, прохладных досках пола, за окном смеялись люди и, швырнув в меня воздушный поцелуй так, как другие сделали бы то с долговой распиской, девушка выскользнула из квартиры. Дверь за ней захлопнулась с впечатляющим, взрывоподобным содроганием, позволившим несколько минут возмущенных пересудов обитающим в шкафах стеклам.
Оставшись в благословенном одиночестве, я вернулся на кухню, допил горькую минеральную воду, швырнул бутылку мимо мусорного ведра и оставил ее лежать на полу, наслаждаясь поражением. Потянувшись и чувствуя себя вполне довольным, хоть и слегка сонным, я отправился в залу, сел в пылелюбивое серое кресло, вытянул из-под его истончившего сиденья пульт и включил телевизор. Со стоявшего рядом журнального столика я смахнул свой сотовый телефон, выдернул из серебристого корпуса провод зарядного устройства, справедливо заслужив визгливое от него недовольство. Открыв сию пустую раковину, я взглянул на маленький экран, фоном которому служила фотография красного однолетнего зимиона. Потертые клавиши потеряли многие свои цифры и буквы, но серая чистота, открывшаяся под ними, возбуждала меня намного больше, соперничая в том лишь со сбитыми краями и потертостями на крышке. С экрана телевизора ведущая, отвратительная худая блондинка, оставлявшая вырез на платье растерянным ввиду ее плоской груди, говорила о грядущем выступлении мэра. Пропущенных звонков не имелось, отчего я поморщился, удивляясь тому, как могут быть легкомысленны некоторые из тех, с кем у меня имелись общие дела. Потребовалось полчаса на мои сборы, ведь следовало найти брюки, на имеющие следов от пищи или спермы, вытащить из-под кресла носки без дырок, позаимствовать из девичьего шкафа черную футболку с кошачьей на ней многоцветной мордой. Натянув ее, я посмотрел на себя в зеркало, висевшее почти напротив входной двери. Теперь меня сочтут религиозным, но вся моя одежда была или рваной или грязной, что стало обычным в последнее время, с тех пор, как репетиции Снежаны обрели подозрительную частоту и продолжительность. Иногда она уходила рано утром, возвращалась на час-другой посреди дня, исчезала снова и появлялась только после полуночи, усталая, потная, отказывающая мне в близости и забавно злящаяся после того, как я брал ее силой.
Предвидя как минимум одну приятную встречу, я выбрал из карамельной жестяной коробки, облюбованной зимородками и туканами, угрюмую тяжесть кольца, по всей окружности вспухшую крупными гладкими волдырями. Кровожадный блеск выдавал в нем хирургическую сталь, мягкой уверенностью сжало оно средний палец на правой руке, кроткое и готовое ко всем недозрелым удовольствиям. Тонкий серебристый ободок круглых часов, раскинувших по женской кости циферблата щупальца черного осьминога, успел царапнуть мое правое запястье, пока я затягивал на левом узкий кожаный ремешок.
Замшевые туфли, намеренно лишенные ухода, сбившие носки и каблуки в оскверняющих странствиях по городу, приятно сдавили ноги. Телефон отправился в правый карман брюк, всю имевшаяся у меня наличность, полторы тысячи мирадоров, поместилась в левый, с полки под зеркалом вспорхнули солнцезащитные очки с непроницаемой темнотой узких глазниц, спрыгнули разномастные ключи, сбившиеся под белой вислоухой собачкой пластикового брелка. Взглянув на себя еще раз, я остался доволен своим небрежно-порочным видом и покинул квартиру.
На лестничном пролете этажом ниже вжималась в угол между стеной и рамой жестяная банка от собачьей еды и, почти вываливаясь из нее, на груде подобных себе, едва дымился свежий окурок. Кто-то был здесь, когда моя девушка спускалась, видел ее груди под тонкой майкой, проследил за ее ягодицами и ревность дернула мои губы, разошедшиеся на мгновение в завистливом оскале. Скорее всего, то был грузный высокий подросток из квартиры, прятавшейся за красной железной дверью. Следовало заставить его появиться передо мной, пригрозить ему, намекая на непристойную расправу. Дважды он пытался схватить мою девушку за руку, когда она проходила мимо, но я только посмеивался, выслушивая ее причитания, воображая те сцены и возбуждаясь. Гневный взор обратив на его дверь, как будто надеялся, что в это мгновение он смотрит в глазок, я прошел мимо нее, затем вернулся и ударил в нее ногой. Медленно развернувшись, оставляя время на любой ответ, я так и не получил его, довольствуясь упущенным смехом.
Отшвырнув вверх еще один этаж, я оказался в квадратной полутьме, я прикоснулся к стальной кнопке и она открыла для меня дверь. Вторгаясь в ослепительный сей, приготовившийся к пыткам день, я совершал то с единственным намерением дополнить собой каждую из тех особенностей его первозданной чистоты.
Проскользнув в тени деревьев, пробравшись мимо них, стараясь не наступать на едкие солнечные пятна, я выбрался на неровную асфальтовую дорожку, повернул за выпятивший кирпичный некроз угол дома, схватился за прутья калитки, оставившие на моих пальцах черную свою пыльцу. С тяжелым скрипом она сдвинулась, открывая прореху, позволяющую мне вырваться на улицу и я не потрудился закрыть ее за собой, оставляя путь во двор открытым для носух и броненосцев.
Предоставленный лишь своим желаниям и свободный, я опустил на глаза солнцезащитные очки, спасаясь в их благодатной темноте и теперь весь мир вокруг приобрел цвета чуть более мягкие и насыщенные, смирился в преувеличении насыщенного контраста, слегка потух и присмирел, в умиротворении том обретая радость и сам я чувствовал себя спокойным и полным сил. Взглянув на часы, я узнал от головоногого мудреца, что было уже пять минут десятого и направился в сторону центра.
Город растворялся вокруг меня в беспокойном своем, тоскливом, уравновешенном, безучастном безумии. В сближении со мной одновременно пребывало так много людей, что иногда мне приходилось замедляться, упираясь взглядом в чужую спину с темными узорами пота на рубашке или блузе, образами своими напоминавшими мне о том, что я уже несколько дней не извергал семя на девичий язык. Навстречу мне прошли два чиновника в красных мундирах и черных кожаных перчатках, требовавшихся от них, несмотря на жару. Смеющиеся, они украсили кожу на лице своем золотистыми чешуйками мнемоцита, выдававшего их путешествия на северные коралловые острова и визиты к живущим на них женщинам-анацефалам. Черные траурные ленты свисали с их бескозырок, названия контор обозначались незнакомыми, непонятными мне пиктограммами. За поворотом в переулок мелькнуло море, возле покосившейся двери в соляную лавку стояли, сгорбившись, трое моряков и я позавидовал им, вообразив, что уже вечером того дня их ржавые, полнящие трюмы крысами сухогрузы отправятся прочь из этого города, в манящие клокочущими мусорными островами, красочными нефтяными пятнами, усталыми подводными огнями, ядовитыми рыбами, гниющими атоллами океаны, где смерть становится мучительно яркой в растворяющем сталь солнце и не остается ничего, что не могло бы стать мыслью. В изможденном, ревниво-истеричном, пенисто-сластолюбивом сходстве мореходов чудилось мне нечто, вынуждавшее к отчаянной зависти, к мыслям о том, что мне следовало вернуться, отдаться, исчезнуть, скользнуть за ними, забыться в любовном естестве, путешествовать по миру, будучи прикованным к горячей трубе в затхлом трюме, подставляя себя нисходящим с вахты. Задумавшись, я посмотрел им вслед, как другие делают, если проходит мимо них соблазнительный мужчина и, не заметив, едва не сбил с ног одну из шедших мне навстречу школьниц. В своей летней униформе, коротких юбках и черных чулках, тонких топах и шляпках с сетчатой вуалью, они выглядели отвратительно, напоминая мне одомашенных носух, серо-черных, злобных, переменчиво-недовольных. От столкновения со мной у одной из них слетела с головы шляпка, но другая успела подхватить ее, сжать в руке, повернувшейся ко мне так, что я увидел три ровных шрама на запястье. Слухи уверяли, что теперь они отмечают так свои совокупления. Рыжие волосы, вырвавшись, ослепили меня, световодные искры вспыхнули на кончиках их, превозмогая поляризующие стекла и я отвел взор, опустил его к соскам и промежностям, маленьким грудям под шелковистой тканью, скорее забавным, чем привлекающим. Отступив в сторону, я бормотал извинения, а девушки шипели, фыркали, рычали и та из них, которую я лишил головного убора, выпрямившись, посмотрела на солнце, словно впервые увидела его, после чего перевела на меня шероховатый, отрицающий взор, брови в форме марсианских сабель, электрические искры, сновавшие между ресницами. Слова их оставались непонятными меня, почти забывшего уже женский язык, тем более подростковый его диалект. Поймав свою самку, я приучил ее говорить разумно. Все дальше и дальше торопился я от них, шляпка уже вернулась на свое прежнее место и мне следовало забыть о межполом столкновении, но подобные происшествия неприятны мне более прочих, я не люблю встречи, мне противны случайности. Напуганный произошедшим, я свернул в сторону от широких улиц, ускорил шаг, отправляя себя в сырой промежуток между двумя высотными домами.
Улицы растекались в остервенелом шуме, город обнимал меня сварливой блудницей. Замерев между серыми стенами, я оказался неизмеримо далеким от него, гул его притих, как будто я мог услышать в нем непристойные признания облаков. Замерев, покачиваясь, опустив взор на собравшийся в том узком пристенке мусор, восхищаясь им, не желая уходить от него, я готов был тосковать по оставленной мной квартире. Синеватые соты стен позволили ползти по ним зыбким ругательствам, с каждым днем увеличивавшимся в продолжительности, принимавшим в себя новые буквы, а иногда и целые слова, просачивавшиеся все глубже в податливый бетон. Пройдет совсем немного лет и они проявятся на стенах комнат, проступят сквозь краску и обои, станут причиной скандалов и ссор. Рано или поздно они поднимутся до самого верха, до отпугивающих горгулий антенн, надломят их, и с того самого дня здание будет становиться все уродливее. Возникнут на нем губчатые наросты, испражняющиеся разноцветными жидкостями, испарениями своими вызывающие у девушек головные боли и набедренные сны. В вентиляции заведутся лучистые слизни, количество этажей с каждым годом будет уменьшаться, пока однажды утром на этом месте не обнаружится пыльный пустырь. Зная все это, во времена стайной юности, я состоял в банде, занимавшейся нанесением подобных надписей. Всегда успешный в нахождении общего языка со словами, я воображал оскорбления во все новых их сочетаниях и соратники мои оставались довольны моей работой. С тех пор прошло уже много лет, на месте моих благозвучных деяний появились новые дома и я гордился тем.
Под моими ногами бредило битое стекло, толпились обрывки бумаги, гремели птичьи перья, перекатывались использованные разноцветные презервативы. Закрыв глаза под солнцезащитными очками, я глубоко втянул в себя воздух, совершая сие с такой силой, что произвела она раздражение в ноздрях, желая сохранить себя в безопасности и все же ощутить аромат утерянных наслаждений. День тот позволил мне удачу. Легкий, сладковатый, навевающий образы мозаично ярких стрекоз запах коснулся меня, приближая к величайшим отвращениям сего мира, возвращая давнюю мечту о том, что когда-нибудь при мысли об отвратительном, люди в первую очередь будут вспоминать меня, как делают то сегодня с Миланой Карреной, звездой праздничной копрофагии. Всматриваясь в лукавый блеск зеленых и прозрачных осколков, в мутную первобытную массу, собранную под синим, красным, желтым, матовым латексом, придавленную согнувшейся резной сталью бутылочных крышек, я чувствовал себя готовым к прозрению, я пытался осмыслить путь, приведший их сюда, тысячелетия превращений, мучений, открытий, творений, лаборатории, заводы, состоящие из тысяч деталей машины, производящие, выбрасывающие, исторгающие с неотступностью оплодотворения все новое и новое, должное ему воспрепятствовать. От масштабов воображаемого, от количества людей и частей, задействованных в производстве мельчайшей детали, у меня закружилась голова. Не желая поддаваться дурману, я придал своим пальцам героическое сжатие, превращая их в беспомощные кулаки.
Только мысль о том, что и другие половозрелые чудеса ожидают меня, вожделеют моего внимания, позволила мне отвлечься от созерцания удивительного того зрелища. Город не уставал восхищать меня, меняясь слишком быстро, уворачивающийся тем самым от гнетущей скуки. Постоянные перемены, происходившие в нем, напоминали мне смещение осколков страданий в калейдоскопе. Одно двоякодышащее движение моего сна, один неловкий поворот хрипящего буйного тела посреди ночи, одно совокупление без чужого оргазма и город становился иным, на улицы его выползали стаи хищных чудовищ, вонзавших свои кариесные клыки в асфальт, вскрывавших его в поисках живительных путей, разрезавших кривыми резцами кабели и трубы, чтобы напиться зловонной влаги. Только она и привлекала их, трупоедов и падальщиков, окрасивших шкуры в яркие оранжевые и желтые оттенки, предупреждающие об опасности каждого, кто рискнет к ним подойти. Но находились бесстрашные мужчины, а нередко и женщины, усмирявшие тех зверей, великолепные сумасброды, осмеливавшиеся не только приблизиться, но и прикоснуться к их твердым и прочным телам, покрытым ржавыми маскировочными пятнами. Могучие те укротители вспрыгивали на обтянутые коростой засохшей грязи гусеницы, пробирались в кабины с хищной ухмылкой первооткрывателей и почти сразу же раздавалось недовольное рычание зверя, покорившегося, но не желающего забывать о дикой сущности своей. Твари проходили по городу, пожирая его, стая оставляла после себя опустевшие улицы, меняя появлением своим их направление, обращая их течение вспять, из-за чего вымирали многие виды обитающих в парках и между домов животных и птиц. Слыша по ночам, как движутся недовольные тяжелые машины, вдыхая добиравшийся до меня сквозь открытые окна запах их горячих тел, я в страхе прижимался к потной женской спине, к зазубренным страхам позвоночника, надеясь, что жизнетворная ее суть спасет меня от этих невозмутимых убийц, скроет от них, позволит им миновать меня, не поглощая. На следующее утро, выходя из дома, я с опаской оглядывался по сторонам, недоумевая, смогу ли придти в нужное мне место вовремя, сохранились ли еще прежними названия улиц и сами они, стоят ли еще дома, мимо которых мне нравилось шествовать во время своих блаженных блужданий. Совершая звонки своим знакомым, много лет проживавшим в неизменности расположения регулярно посещаемых мной квартир, я уточнял адреса, я осведомлялся, все ли осталось на своих местах, выспрашивал самый безопасный маршрут, боясь встречи, отбившей бы у меня страсть к поэзии. Каждый, у кого от звука ругательства расползаются по коже темные пятна, должен быть осмотрительным в выборе улиц, встречающихся во время его прогулки, учитывать их названия и то, каким цветом и шрифтом выведены номера на домах, время постройки самих зданий и как давно производился их ремонт. Во все времена в городе оставались места прочные и неподвижные. Мало что могло затронуть центральные районы, что сам я связывал с наличием зданий, принадлежащих великой неподвижности власти. Тысячи лет городом правили одни и те же существа, лишь менявшие обличья и тела, все вокруг них каменело, лишалось плоти, переставало пульсировать и притворяться живым, обретало кричащую неповоротливость, извращенную незыблемость, становилось неизбывным и вечным. Утвердившись, оно выпускало каменные корни и мне, принимавшему головную боль от близости чего-либо, чему было больше ста лет, такие улицы были противопоказаны. В обычные дни, перед выходом из квартиры, я внимательно просматривал измененные карты. Посреди ночи я поднимался от своей женщины, тихо, стараясь не разбудить ее, шел в соседнюю комнату по холодному полу, моргая от призрачного света сытых уличных фонарей, садился на выцветшую обивку старого скрипучего стула, усердно потрепанного тремя поколениями кошек, включал ноутбук и долго сидел, глядя то на его экран, то на открытую балконную дверь, за которой металась изувеченная тяжелыми, гулкими, хлестким ударами музыки тишина. С резким воем появлялся на улице автомобиль и я замирал, задерживал дыхание, закрывал глаза, готовый внимать страдающему покою. Несколько раз во время ночных прогулок мне доводилось видеть эти машины. Снабженные оранжевыми проблесковыми огнями, они медленно пробирались по улицам, широкие, неповоротливые, переделанные из военных сегментариев, они распахивали люки на крышах и выпускали из них женщин в белых комбинезонах, заворожено разматывавших длинные черные плети. И как бы сильно не тянула меня в сторону возмущенная, ревнивая, недовольная еще одной моей одержимостью девушка, я оставался неподвижным, ничто не могло оторвать меня от зрелища покачивающегося хлыста, задевающего расщепленным концом асфальт. Изогнувшись, как будто желая взглянуть на небо в последний раз перед тем, как изувечить его, служительница взмахивала своим орудием, задевая придорожные деревья и кусты, плавным, ловким движением, которому Снежана всегда завидовала, разматывала в подслащенном цветами воздухе хлыст, злобно обнажив зубы и сощурив глаза от слепящей страсти, наносила свой точный, быстрый, гремящий удар, исполняя волю закона, наказывая тишину за все причиненные ею злодеяния, за всю ее гремучую пустоту, за все исполинские мысли, к каким склоняла она юных и неуверенных, за все надрывные революции, возникшие по ее вине. И тишина отзывалась сладострастным всхлипом, замирала, в предвкушении следующего удара, привыкшая, пристрастившаяся к ним за многие годы, не мыслящая уже и одной ночи без него и с каждым взмахом хлыста небо обретало на себе еще одну звезду.