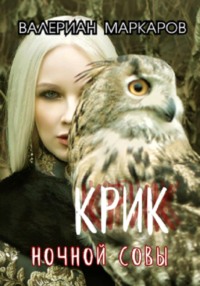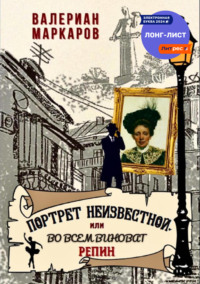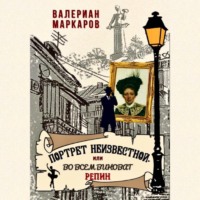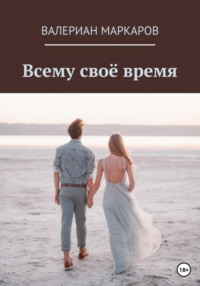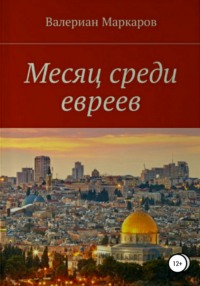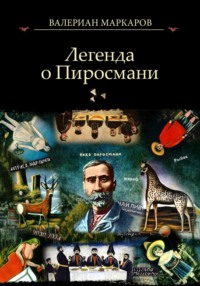Полная версия
Гении тоже люди… Леонардо да Винчи
– Позволь представить тебе Пьетро Перуджино, – сказал Сандро, остановившись перед учеником, сосредоточенно склонившимся над картоном. Тот был старше Леонардо лет на шесть и, похоже, даже не заметил их появления.
– Это Леонардо из Винчи, наш новый подмастерье, – добавил Сандро, но его голос утонул в тишине сосредоточенной работы.
– Зови меня просто Перуджино, – бросил тот негромко, не отрывая взгляда от кисти. Его рука двигалась уверенно, вычерчивая тонкие линии – он был весь в рисунке, в своём внутреннем мире.
Сандро, мягко взяв Леонардо под локоть, отвёл его в сторону и прошептал:
– Не будем ему мешать. Он лучший в мастерской по стенной росписи. Учитель доверяет ему заказы на алтарные образы и фрески. Перуджино вырос в бедности, это сделало его осторожным… если не сказать – жадным. Он с трудом доверяет людям. Все свои вещи, даже мелочи, носит при себе. Но у него настоящий дар. И потому Учитель прощает ему многое.
Мимо них быстро прошмыгнул мальчик, совсем юный, с чуть взъерошенными волосами и сосредоточенным выражением лица. Он с трудом нёс в обеих руках тяжёлую металлическую форму.
– А вот и Лоренцо! Лоренцо ди Креди, – улыбнулся Сандро. – Только что пришёл в мастерскую, после учёбы у своего отца – мастера по золоту. Работящий, способный. Будет толк.
Леонардо удивлённо оглядывался по сторонам. Всё здесь было новым, живым, настоящим. Он заметил, что у многих учеников из карманов торчат сшитые листки бумаги.
– А что это у вас за книжки? – спросил он.
– Это не книжки, – усмехнулся Сандро. – Это альбомы. Записные тетради для набросков. Учитель велел носить их с собой всегда, куда бы мы ни шли. Мы делаем быстрые зарисовки – лица на улицах, интересные позы, узоры на ткани, сцены с рынка. Это не только практика, – он понизил голос, – это путь к пониманию жизни. Маэстро говорит, что глаз художника должен быть зорче ястребиного, а рука – послушнее лютни.
Он с уважением оглянулся на фигуру Верроккьо, видневшуюся в дальнем конце мастерской:
– Ты сам всё поймёшь, Леонардо. Наш Учитель – человек необыкновенного таланта. В свои тридцать один он уже стал славой Фьоренцы. Скульптор, живописец, ювелир, архитектор, музыкант… Он ненавидит, когда нас называют просто ремесленниками – малярами или штукатурами. Он считает, что художник должен быть ученым, что искусство требует знания, точности, математики.
Сандро замолчал. В глубине мастерской, в окружении света, пыли и вдохновения, продолжалась работа…
* * *
Первым поручением, которое дал Леонардо маэстро Верроккьо, стало вовсе не рисование и не создание изящных фигур, а обыденная, кропотливая, почти ремесленная работа: растирание пигментов, приготовление связующих, просеивание мела, изготовление штукатурной основы. Эти простые действия были неотъемлемой частью искусства, и сам Учитель строго верил: путь к вершинам живописи начинается с пыли, пигментов и терпения. Только так можно понять тайные законы цвета, плотности, текстуры и света.
Леонардо не роптал. Он молча перемалывал минералы в порошок, осторожно смешивал лазурь с желтком, подолгу размешивал краску в ступке, пока она не становилась живой и шелковистой. В его руках даже самые простые задачи обретали сосредоточенность ученого и тщательность ювелира.
Однако его странность не могла остаться незамеченной. Нового ученика в мастерской сперва встретили сдержанно, с недоверием. Кто-то из старших учеников даже шептал: – Как можно всё делать левой рукой? Слева направо – это же против природы! – Иные кривили губы, глядя, как он штрихует рисунки в зеркальном отражении.
– Не проще ли работать, как все, правой рукой? – с усмешкой заметил кто-то однажды.
Но Леонардо, не отвечая, продолжал рисовать с упорством и свободой, будто сам мир был подвластен только ему, и только так – через левую руку – он мог быть верным своей натуре.
В мастерской Верроккьо трудились восемнадцать юношей – весёлых, дерзких, амбициозных. Все они были одержимы искусством и одушевлены желанием достичь совершенства. Их объединяла не только работа, но и подлинное братство. Каждый имел своё задание, свои обязанности, и никто не мешал другому. Вместе они были как слаженный хор, в котором каждый голос знал своё место. Некоторые заказы исполнялись сообща – и тогда завершённое полотно несло не имя Учителя, а скромную подпись: opus bottega di Andrea del Verrocchio – «работа мастерской Андреа Верроккьо».
Постепенно, среди всех учеников, особенно близким Леонардо стал Лоренцо ди Креди – добродушный, чуткий и не чуждый мечтательности мальчик, в котором таилась та же любовь к прекрасному, что горела и в сердце Леонардо. Они рисовали рядом, делились мыслями и впечатлениями, вместе ходили в церковь Санта Кроче – смотреть на скорбных святых Джотто, с их печальными глазами и угловатыми руками, и в дель Кармине – изучать ясность света и простоту композиций Мазаччо, предвестника новой живописи.
Они часто помогали маэстро Андреа, особенно когда тот начал увлекаться гипсовыми масками. Верроккьо как раз открыл удивительные свойства мела: смешанный с тёплой водой, он становился податливым, почти живым, как пчелиный воск, а после высыхания – превращался в прочную белую каменную оболочку. Мастер начал снимать посмертные маски с лиц ушедших – и Леонардо с Лоренцо, не испытывая страха, но с каким-то благоговейным вниманием, участвовали в этом странном обряде бессмертия.
Они готовили раствор, подавали повязки, помогали фиксировать лицо покойного… и смотрели, как черты, ещё недавно живые, застывали в вечности. Маэстро не учил их словам – он учил их видеть, чувствовать, касаться формы с уважением, будто касаешься души.
Мастерская Верроккьо в эти годы жила в постоянном ритме: молоты, кисти, разговоры, шутки, запахи краски и пыль – всё смешивалось в одну симфонию труда. Сюда стекались заказчики: монахи, купцы, дворяне, даже представители семейства Медичи.
А в этом многоголосом хоре юных талантов, среди пыльных полов и охры, среди глазниц гипсовых бюстов, и прошёл путь Леонардо – от простого подмастерья до ученика.
Время текло быстро. Эти годы стали для него не просто школой – это была алхимия взросления. Он жадно впитывал всё: свет и перспективу, анатомию и механизмы, краски и тайны геометрии. Он наблюдал. Он вникал. Он уже не повторял, а осмыслял. И порой маэстро Верроккьо задерживал на нём пристальный взгляд – в котором была и гордость, и предчувствие чего-то большого.
Леонардо да Винчи радовал Учителя. И сам, может быть, впервые чувствовал, что стоит на верном пути.
В мастерской маэстро Верроккьо картины создавались на гладко отшлифованных деревянных досках, тщательно покрытых белоснежным гипсовым грунтом. Перед тем как краски касались поверхности, на свет рождался картон – большой лист плотной бумаги, на котором художник прорисовывал контуры композиции. Затем иглой тщательно накалывались основные линии рисунка, создавая тонкие ряды микроскопических проколов. Картон плотно прижимался к доске, и через отверстия в него втиралась пыль растолчённого древесного угля. Когда шаблон осторожно снимали, на доске оставался лёгкий, будто созданный дыханием, силуэт будущего изображения – основа великого полотна.
В ту весну, когда Леонардо исполнилось двадцать, Учитель позвал его к себе. Был ранний полдень, солнечный свет мягко падал сквозь высокие окна мастерской, выхватывая то руки, смешивающие краски, то блеск золочёных окладов, то тени гипсовых бюстов. Запах пигментов, древесной стружки и горячей олифы наполнял воздух – пахло творчеством.
– Леонардо, – сказал маэстро, легко кивнув, подзывая его рукой. В голосе прозвучало нечто особенное – одновременно строгость наставника и скрытая, почти отеческая доброта.
Юноша подошёл ближе. Его лицо, обычно задумчивое, сейчас было оживлённым. Он чувствовал: произойдёт нечто важное.
– Послушай-ка, – продолжал Верроккьо, кладя руку на край большого полотна, накрытого полупрозрачной тканью, – монахи из Валломброзы заказали мне сцену Крещения Христа. Картина почти завершена. Вот, взгляни: на берегу Иордана стоит Иоанн Креститель – в строгой задумчивости он совершает таинство. Христос – с наклонённой головой, исполненной кроткой силы. А вот два ангела, преклонив колени, поддерживают Его одежды…
Он на мгновение замолчал, вглядываясь в своё творение – и в юношу рядом.
– Леонардо, – сказал он, чуть понизив голос, – я хочу оказать честь одному из лучших моих учеников. И в то же время – испытать его силу. Ты догадываешься, о ком я говорю?
Леонардо слегка смутился. Его сердце забилось чаще, но голос остался спокойным:
– Нет, Учитель, – ответил он тихо, почти шёпотом.
Верроккьо прищурился, уголки губ его чуть дрогнули в сдержанной улыбке:
– Заканчивать картину будешь ты. Ты напишешь вот этого ангела, слева, – сказал он, указывая на полуготовую фигуру, – и вот здесь, на заднем плане, допишешь пейзаж. Небо, горы, вода. Всё, как ты это видишь.
Леонардо не ответил. Он смотрел на полотно, в котором ему теперь предстояло оставить след собственного духа. Сердце стучало громче – это был миг, когда гений подступал к краю собственной судьбы.
– Можешь приступать к работе, – просто сказал маэстро и отошёл.
Леонардо остался один перед нетронутым участком картины. Он провёл пальцами по доске, ощущая холодную гладкость, слушая тишину вокруг. В воздухе дрожало предвкушение. Он знал: всё, что он скажет здесь – кистью, цветом, светом – станет его первым настоящим заявлением миру. И он не позволил себе ни страха, ни колебаний.
Он опустил кисть в тончайшую смесь краски – и сделал первый мазок.
Прошло около получаса, как Леонардо приступил к работе. Воздух в мастерской был насыщен терпким запахом красок, сандала, мокрого мела и жареных орехов, которые кто-то принес к обеденному часу. Из-за ширмы доносились голоса и отголоски молотка – подмастерья сбивали рамы для новых досок. Внезапно за его спиной раздался сдавленный, почти панический шепот:
– Что ты делаешь, Леонардо? – это был Лоренцо ди Креди. Он стоял, растерянно моргая, прижимая к груди поднос, на котором должно было быть несколько яиц и миска для темперы. – Зачем тебе льняное масло? И… куда ты дел те яичные желтки, которые тебе с утра принесли подмастерья? Ты их что, выпил?
Леонардо не сразу ответил. Он стоял, склонившись над палитрой, в которую вместо традиционной яичной смеси осторожно капал прозрачное, золотистое льняное масло. Его движения были точными, почти медитативными.
– Лоренцо, – сказал он, не отрывая взгляда от краски, – я не могу больше работать по старинке. Темпера слишком тороплива. Краска сохнет, не давая ни глубины, ни возможности вернуться и исправить. А я хочу видеть, как дышит свет.
В его голосе звучала уверенность, но где-то в подспудной глубине слышалось напряжение – будто он и сам шёл по тонкому льду, рискуя, но не способный поступить иначе.
– Леонардо… – Лоренцо приблизился, понизив голос, – ты что, хочешь вписать масляного ангела в темперную картину? Ты понимаешь, чем это грозит? Учитель взорвётся!
– Льняное масло даёт мне то, чего не даст желток: свободу. Прозрачность. Многослойность. Я смогу тонко передать складки ткани, мерцание света на крыльях, переливы кожи. Я не испорчу картину – я добавлю ей жизни.
Он посмотрел на друга и чуть улыбнулся, но в этой улыбке таилось странное одиночество человека, который стоит на краю новой эры.
– Ты опять за своё… – простонал Лоренцо, – опять твои эксперименты! А если что-то пойдёт не так? Если масло поползёт, если краска свернётся, если… если маэстро узнает?
– Если маэстро узнает, – перебил его Леонардо, – то, надеюсь, увидит, что искусство не должно быть навечно сковано рецептом. Что оно способно расти, меняться, дышать. И, если не поймёт – значит, я еще не готов. Но я всё равно должен попробовать.
Он снова погрузился в работу, не глядя, как Лоренцо отступает к выходу, всё ещё сжимая поднос с опоздавшими желтками. Свет падал на ангела, и Леонардо наносил мазки новым способом – мягко, прозрачно, будто не краской, а светом.
И вот, наконец, задание было завершено. В левом углу полотна «Крещение Христа» стояли, преклонив колени, два ангела. Одного писал Учитель – маэстро Андреа дель Верроккьо, другого – его юный ученик Леонардо.
Между двумя фигурами зиял безмолвный, но разительный контраст.
Ангел Верроккьо был крепок, полнолиц, исполнен земного благоговения. Он напоминал добропорядочного горожанина, смиренного перед лицом таинства, словно ожидал своей очереди к исповедальне. Всё в нем говорило о долге, привычке, искренней, но уже приевшейся вере.
А рядом, в голубом плаще, сиял другой ангел – созданный рукой Леонардо. Его лицо было тонким, почти прозрачным, с мягкими чертами, в которых читалась не детская кротость, но философская печаль. Он был словно на полпути между небом и землей. Его взгляд, полный света и неведомой тоски, будто вопрошал: «Чего ищу я на этой земле? а если я уже здесь, почему не могу остаться, будучи бессмертным, навечно?» На этом лице жила тайна, не поддающаяся словам. Там сплелись боль и смирение, свет и прощание, нежность и трагическое принятие. Там – сама человечность, возведённая до божественного…
– Леонардо… – прошептал поражённый Лоренцо ди Креди, – это чудо! А твой пейзаж… эти камни в тумане, и вода, свет сквозь неё… в них я слышу, клянусь, звон колоколов, которых ещё нет… – он осёкся, в изумлении глядя на работу, – Ты… ты УБИЛ творение Учителя!
Один за другим к картине начали подходить остальные ученики. В мастерской постепенно стихала работа. Всё внимание – к полотну.
И вот, наконец, появился он – маэстро Верроккьо. В своём обычном фартуке, тяжёлый, как скульптура, он подошёл, прищурившись, встал перед картиной. Молча.
Затем надел очки. Сделал шаг назад. Поднял голову. В мастерской стояла такая тишина, что было слышно, как под потолком две залетевшие бабочки шепчутся друг с другом, словно боясь вспугнуть этот миг.
Маэстро долго молчал, его взгляд был сосредоточен, лицо неподвижно. И когда тишина стала почти невыносимой, он сказал негромко, но отчётливо:
– Хорош. – затем, выдержав паузу, добавил: – Даже больше чем хорош.
Он отвернулся, достал из кармана кисть. Крепко сжал её в руке. И вдруг… с хрустом сломал надвое, бросив за пустующий стол с красками.
– Слушайте все! – его голос зазвучал торжественно, почти трагически. – Я даю слово – слово Андреа дель Верроккьо, – он повернулся лицом к ученикам и они увидели взволнованное, покрасневшее и даже какое-то, сразу постаревшее, его лицо, – я больше никогда не вернусь к живописи. Ибо мне не за чем более к ней возвращаться!
В мастерской пронёсся ропот, кто-то охнул. Только Перуджино, гордо выпрямившись, сказал вслух:
– Но, маэстро… в Евангелии от Матфея сказано: «Нет ученика выше учителя своего».
Верроккьо обернулся, его лицо было бледным, но в глазах горел огонь.
– Ты не прав, Перуджино! – его голос сотряс воздух. – В любой науке, в любом ремесле ученик может и должен превзойти своего учителя! Иначе зачем мы трудимся, зачем учим, если не желаем быть превзойдёнными?
Он замолчал, затем, глядя в лица своих учеников, продолжил:
– Да, в Евангелии речь идёт о духовном наставнике, через которого с нами говорит Господь. Но я – не пророк. Я – художник. И я мечтал об этом мгновении. Всю жизнь. Чтобы увидеть, как рождается тот, кто превзойдёт меня. И вот он стоит перед вами. Леонардо!
– Помните это, друзья мои, – его голос дрожал, но был силён, – ученик не должен только подражать. Он должен мыслить сам. Искать своё. И да – однажды он должен превзойти. Это и есть путь человеческого духа. Это – эволюция.
И в эту минуту в мастерской словно впервые разлился настоящий свет.
Через некоторое время, беседуя с Леонардо, Сандро поделился с ним своими соображениями:
– Леонардо, ты первый, кого так возвеличил Учитель. А то, что он забросил свои кисти, так ты это… не переживай сильно по этому поводу. Это был не гнев и не раздражение Учителя. Он никогда не считал живопись смыслом своей жизни, хотя и считается по праву одним из самых известных живописцев Фьоренцы. Он же давно мечтает сосредоточиться на работах по металлу и скульптуре. Да и потом, он очень горд и счастлив тем, что именно ЕГО ученик стал молодым гением. С твоей помощью слава его боттеги принесет ему много новых, дорогих заказов!
– Жалок тот ученик, который не превзойдет учителя, – сказал Леонардо тихим голосом. Его услышал только Сандро.
Вскоре после этого Леонардо стали доверять самостоятельные работы. Правда, его отвлекали от искусства увлечения военной техникой и анатомией, занятия последней он держал в секрете.
Живя одной семьей с друзьями по боттеге, Леонардо понял, что Лоренцо ди Креди являлся истовым католиком; глубоким, искренним религиозным чувством были проникнуты все его мысли и действия. Сандро Боттичелли, наоборот, выступал против официальной церкви во имя забытых идеалов раннего христианства. А когда друзья-гуманисты познакомили его с воззрениями Джустино и Оригена Александрийского, он стал утверждать, что человек состоит из трех частей: тела, души и духа, и открыто проповедовал, что ад – это явление временное, а искупление грехов будет всеобщим. Перуджино объявлял себя атеистом, хотя порой, когда того требовали обстоятельства, и ссылался на Священное Писание. На деле он насмехался над верой своих двух друзей и отрицал бессмертие души, утверждая, что большинство священнослужителей тайно разделяет его взгляды.
Для Леонардо и оба верующих живописца, и неверующий Перуджино одинаково были невеждами, ведь они исходили из туманных ощущений, а не из ясных, чётких представлений. Сначала надо было всё познать самому – и не только на земле, но и во Вселенной, ибо знание есть дочь опыта: изучить проблему, а потом уже уверовать.
– Прежде чем поверить, нужно узнать. Надо изучить строение человеческого тела и уже потом обратиться к сфере духа. И если строение тела кажется тебе чудесным, оно ничто в сравнении с душой, обитающей в столь совершенном теле. Поистине душа должна быть божественной, – сказал Леонардо однажды Лоренцо.
Он ненадолго замолчал, задумчиво глядя в огонь, мерцавший в очаге:
Лоренцо не нашёлся, что ответить. Он лишь вздохнул, опустив глаза, как будто что-то важное и ускользающее только что пронеслось перед ним, и он не сумел это удержать.
* * *
Однажды, когда солнце уже клонилось к западу и золотые лучи окрашивали стены мастерской в теплые медовые тона, маэстро Верроккьо окликнул Леонардо:
– Леонардо! Подойди ко мне.
Юноша тотчас отложил свою работу и поспешил к Учителю.
– Я получил заказ на картину «Благовещение» от монастыря Сан Бартоломео в Монтеоливето. Я поручаю эту работу тебе, моему самому талантливому ученику, – глаза Верроккьо были наполнены надеждой, а голос звучал сдержанно, но с явной гордостью. – Ты помнишь Евангелие от Луки, я надеюсь? В нем сказано, как ангел Гавриил был послан в Назарет, чтобы приветствовать нареченную невесту Иосифа – Деву по имени Мария. Он, войдя к ней, сказал, если мне не изменяет память: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Сделай наброски. Избери фигуры, придумай пейзаж, ибо апостол Лука не особенно утруждал себя в его описании. Дай мне знать, когда композиция будет готова.
Эти слова ошеломили Леонардо. Он ощущал в них не только доверие, но и рубеж. Это полотно становилось его первым самостоятельным испытанием.
После долгих и мучительных размышлений он отправился в церковь Сан Лоренцо, к мраморной гробнице Медичи, некогда созданной в этой же мастерской. Камень и свет, тень и архитектура – всё это навеяло ему образы и линии. Именно гробница послужила моделью для архитектурного фона будущей картины.
Он работал тщательно, сдержанно, будто выдыхал душу на доску, не отказавшись от символизма, столь любимого его Учителем. Лилия в руке ангела стала символом чистоты, белые цветы в траве – вестниками весны и обновления, а раскрытая книга на пюпитре напоминала о пророчестве Исайи: «Се, Дева во чреве примет и родит Сына».
Когда полотно было завершено, он долго не мог заставить себя показать его. Что-то тревожило: правая рука Мадонны казалась удлинённой, будто нарушающей законы анатомии; цветы и трава – больше похожими на избыточно пёстрый узор; а крылья ангела – острыми и широкими, почти хищными, как у сокола, пролетавшего когда-то над холмами Винчи.
Но когда маэстро Верроккьо наконец увидел работу, он долго стоял молча, глядя на ангела, склонённого перед Девой, и, наконец, сказал:
– Но тебе удалось вдохнуть в него жизнь, Леонардо. Никто, у кого есть глаза, не станет сомневаться – твой ангел дышит.
Леонардо опустил глаза. В его душе всё ещё бушевало сомнение – он был слишком требователен к себе, слишком остро ощущал несовершенство.
Отец, сэр Пьеро, узнав о заказе и успехе, сам пришёл в мастерскую. Он стоял в дверях, в строгом одеянии нотариуса, но с непривычной мягкостью на лице.
– Я горжусь тобой, Леонардо, – сказал он, положив руку на плечо сына. – Ты оправдал мои ожидания.
С этого дня имя Леонардо всё чаще звучало в среде меценатов, гуманистов, философов, архитекторов и поэтов Фьоренцы. Его взгляд на искусство – острый, внутренне обострённый, не похожий на других – начинали замечать. Юный мастер вышел из тени великого Верроккьо. И сделал первый шаг на своем пути – пути, что вел сквозь тернии сомнений к собственному Солнцу.
Тем временем над Фьоренцей разразилось волнение. Весть о смерти Козимо Медичи, человека, чьё имя стало синонимом политического гения и меценатства, пронеслась по городу, словно весенний ураган. За этой смертью последовали потрясения: в ожесточённой борьбе за власть был убит его законный наследник – сын. Город дрожал от слухов и интриг. Однако судьба распорядилась иначе: в 1469 году место правителя занял семнадцатилетний внук Козимо – Лоренцо Медичи.
Никто тогда ещё не догадывался, что начинается блестящая эпоха – эпоха Лоренцо Великолепного. Молодой властитель пошёл по стопам своего великого деда, но привнёс в политику не только гибкий ум и твёрдую волю, но и душевную тонкость, утончённый вкус и искреннюю любовь к искусству. Лоренцо лично знал поэтов, покровительствовал художникам, вел беседы с философами и ученёными. Вокруг него собралась яркая плеяда талантов: Полициано, Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Сандро Боттичелли и многие другие, кому было суждено изменить лицо эпохи. Фьоренца его времени стала центром культурной Вселенной. Она диктовала стиль, манеру, мышление – остальные города Италии могли лишь стараться угнаться за её сияющей поступью.
Лоренцо, который, как отмечали современники, не отличался выдающейся наружностью, с лихвой возместил это врождённым благородством, обаянием, эрудицией и искренним обхождением. Он лично посещал боттеги художников, беседовал с мастерами и подолгу вглядывался в работы юных учеников, словно желая разглядеть в них будущих титанов.
Именно в мастерской Верроккьо Леонардо впервые и увидел Великолепного. Он вошёл без свиты, в плаще, простым жестом поприветствовал маэстро и некоторое время беседовал с ним об античных сюжетах. Его живой, цепкий взгляд скользнул и по фигурам, и по ученикам. На мгновение он задержался на Леонардо – будто увидел в нём нечто. После их короткой беседы, полной изысканной любезности, Леонардо был уверен – он не забыт.
Вскоре пошли заказы: Лоренцо поручал Верроккьо работы для своих флорентийских дворцов, скульптурные украшения, элементы архитектуры, росписи. Сам Леонардо тоже бывал в доме Медичи на виа Ларга – это была встреча с другим миром, в котором книги соседствовали с античными статуями, философские диспуты велись у каминов, а стихи рождались прямо во время ужина.
Особенное впечатление на юношу произвёл сад Медичи возле площади Сан-Марко. Там, среди мирта и кипарисов, он реставрировал древние скульптуры. Внимательно изучал каждый излом, каждую выщербленную черту, будто вступал в молчаливый диалог с античностью. Казалось, камень говорил с ним. И именно здесь, среди зелени и мрамора, он впервые задумался не только о внешнем облике вещей, но и о тайнах их внутренней сущности, о природе красоты и симметрии, о том, что лежит за гранью видимого.
Да, он взрослел. Его имя начинало обрастать значением. И Фьоренца, пылающая огнём искусства и разума, становилась его естественной колыбелью.
В те годы маэстро Верроккьо получил один из самых почётных заказов своего времени – от главы главного собора Флоренции, Санта-Мария дель Фьоре. Ему предстояло завершить грандиозный замысел великого архитектора Филиппо Брунеллески, который полвека назад возвёл над городом гигантский восьмигранный купол – дерзновение, казавшееся невозможным в глазах современников. Теперь этот купол предстояло увенчать символом победы веры – позолоченной медной сферой с крестом.