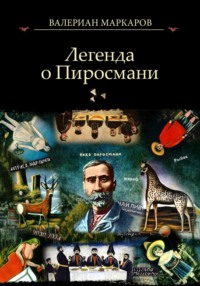Полная версия
Гении тоже люди… Леонардо да Винчи
А живопись? Нет, это не ремесло. Это наука – и даже более: царица всех наук.
– Живопись, – говорил он, – охватывает поверхности, цвета и формы всего, что рождено природой. Если философия проникает внутрь вещей, то живопись – их лицо, их видение. И если истина – дочь времени, то живопись – дочь природы. Она порождена ею и несёт в себе её дыхание. Через живопись говорит мир. И она, как ни одна другая наука, может быть понятна всем, в любые времена и на всех языках.
Он преклонялся перед природой – за её разнообразие, её геометрию и строгость. Но в этом же разнообразии пытался разглядеть Лик Творца. Не в прошлом он искал Бога, а в будущем – в движении звёзд, в спирали раковины, в полёте стрекозы. Он искал его в безмолвии механизмов и законах движения.
И в этом жаждущем, стремящемся разуме созревала клятва: быть первым. Первым среди художников, первым среди мыслителей. Он дал такое обещание отцу, и неуклонно держал слово.
Чтобы постичь тайны бытия, он тренировал не только руку, но и память, развивал воображение, исследовал психику человека. Он наблюдал не только лица – он ловил жест, интонацию, выражение глаз. Он хотел понять, что скрывается за мимолётной улыбкой, за сжатыми губами, за хмурым лбом – в этом он видел ключ к тайне души.
В пылу своих стремлений он почти отказался от сна. Для того чтобы обрести больше времени, он перешёл на полифазный режим: спал всего пятнадцать минут каждые четыре часа. В сумме – полтора часа в сутки. Он выкраивал минуты, словно драгоценные камни, и клал их в сокровищницу знаний. День сливался с ночью. Лампа освещала его альбом, в котором рождались наброски крыльев, людей, водоворотов и башенных часов. Он шептал себе:
– Если уж жизнь коротка, я сделаю её длиннее разумом.
В мастерской Леонардо царил строгий, почти монашеский порядок – даже за обеденным столом. Есть полагалось трижды в день, и в установленное время повар Бруно громко звонил в бронзовый колокольчик, извещая о начале трапезы. Рацион был сытным, пусть и не изысканным: густой овощной суп, иногда с нежными клецками; дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям – к супу добавлялось мясо: варёная говядина, телятина или запечённая баранина с ароматными травами. По пятницам, как велел пост, ели рыбу – чаще всего золотистую спинку копчёного тунца с тушёным нутом или цветной капустой. Хлеб подавался в изобилии, с хрустящей коркой и пышным мякишем. Запивали пищу простой водой или пикетом – легким деревенским вином, полученным из выжимок, оставшихся после основного сбраживания.
По праздникам Бруно разгуливался: на столе появлялись дичь, домашняя птица с хрустящей кожицей, свинина, фаршированная пряной морковью и каштанами. А чтобы вся эта пирамида съестного улеглась в животах, гости мастерской – ученики, ремесленники, друзья – щедро посыпали еду молотым перцем. Его сыпали столько, будто желали сжечь огнём желудка всё, что только что проглотили.
Но вот что Бруно никак не мог взять в толк – как можно жить без мяса?
– Мессере, да вы же себе вредите! – уговаривал он Леонардо в который раз, выкладывая перед ним блюдо с ломтями розовой телятины.
– Бруно! – Леонардо вскинулся, лицо его порозовело, глаза сверкнули, как при ударе огнива о кремень. – Сколько можно повторять! Я не ем мяса – с детства не ем! Запомни это раз и навсегда. Моим ученикам можешь подавать что угодно. Но для меня – ни кусочка, ни капли!
Он резко отодвинул тарелку и прошёлся по комнате, не в силах утихомирить бушующее в груди негодование. Но когда говорил – голос его становился уже не гневным, а горестным, почти пророческим:
– Как можно вкушать то, что дышит, чувствует, смотрит на тебя живыми глазами?.. Как может человек, мечтающий о свободе, держать в клетке птицу, небо для которой – единственный родной дом? Как может он убивать тех, кто делит с ним это одиночество мира?
Он замолчал, сжал губы. Потом, опустившись на скамью и выждав, пока подадут простую миску бобов, проговорил уже тише, обращаясь не к повару, а ко всем:
– Мы – ходячие кладбища… мы живём, умерщвляя других. А ведь именно в бережности к жизни – нашей и чужой – начинается настоящее великодушие.
Он ел молча, с достоинством, присуще лишь тем, кто в ладу с собственной совестью. Потом, глядя на учеников, которые втайне преклонялись перед этой внутренней чистотой, мягко заговорил – теперь уже с той доброй ироничной улыбкой, что умела разрядить любую напряжённость:
– Мечтайте о невозможном, друзья мои. Вы рождены не просто для того, чтобы копировать то, что видите, но чтобы создавать нечто такое, чего ещё не существовало. Позвольте себе свободу мечтать широко – как небо над Арно. Живите так, будто каждый день – это полотно, на котором вы – творцы.
Он поднял взгляд к окну, за которым шумели листья старой оливы. День клонился к закату. Леонардо вздохнул. Его сердце было полно – и света, и тишины, и мысли, что и в этой земной трапезе есть место для небесного смысла.
Глава 7
Сегодня Флоренция блистала. Город с восхода погрузился в сияющий, многоголосый водоворот: праздновали День святого Иоанна Крестителя – самого почитаемого покровителя Республики, и никакое другое торжество не могло сравниться с этим по пышности, размаху и внутреннему жару. От утреннего неба над Арно до пыльных булыжников Виа дель Кальцо – всё дышало нетерпеливым ожиданием и праздничной гордостью.
Главным зрелищем была великая процессия – гордость гражданской и религиозной Флоренции. Впереди – трубачи и флейтисты в ярких ливреях, а за ними – карнавальные шуты, вышагивающие в диковинных колпаках и с бубенцами, искрящимися на солнце. Они создавали пролог шествия, за которым, в строгом и величавом ритме, следовали приоры, капитан народа, консулы цехов – каждый с высокой свечой, воск которой мерцал на жаре, будто бы сам огонь благоговел перед этим парадом человеческого достоинства.
Знамена развевались, как паруса свободы: над толпой реяли гербы ремесел, братств и приходов. Лошади – украшенные бархатными попонами, в золоченых уздечках, – гарцевали под звон всех колоколов города, и каждый шаг процессии сопровождался рукоплесканиями, восклицаниями, шепотом восхищения. Из окон, затканных пурпурными и лазурными коврами, свешивались лица горожан – женщины с венками в волосах, дети, свесив ноги и хлопая в ладоши, старики с благоговением крестились. Купцы и мастера стояли перед лавками, выложив на прилавки лучшее, словно это был судный день их ремесленного искусства.
На главной площади, где замирал ветер и замедлялось само время, возвышался балдахин – тканое небо, натянутое на высоте двенадцати метров, сверкающее золотом и синим шелком, как царское одеяние святого. Под ним, в Баптистерии Иоанна, начиналась торжественная месса – хор из лучших певчих Флоренции сливался в небесный гимн, словно ангелы спустились петь вместе с людьми.
А после – разгорячённые толпы бросались в другую стихию: скачки. «Бородатые» лошади – благородные, мощные животные с развевающейся гривой – мчались сквозь узкие улочки, соревнуясь за драгоценный приз: темно-красный штандарт с лилией в серебре и крестом на белом поле. В повозке, что завершала бег, восседали трубачи коммуны и изысканные дамы, чья улыбка была для победителя не меньшей наградой, чем сам штандарт.
Однако Леонардо не участвовал в этом всеобщем ликовании. За плотно прикрытыми ставнями его мастерской царила сосредоточенная тишина. Он работал. Перьевой карандаш шуршал по бумаге, кисть смешивала цвета на палитре, механический чертёж медленно рождался на пюпитре.
– Маэстро, – с удивлением спросил один из учеников, заглянув в тень мастерской, – отчего вы не празднуете? Вся Фьоренца поёт и пляшет, славя святого Иоанна!
Леонардо оторвал взгляд от листа, на миг задержался в тишине, а затем сдержанно произнёс, в голосе его прозвучала ирония и печаль:
– Иоанн Креститель, пророк пустыни, человек в меховой одежде и саранчой в пище, вряд ли мог бы обрадоваться такому расточительству, этим золочёным плащам, трубам, крикам и победным лошадям. Он был не триумфатор, а смиренный предтеча Мессии. Мне ближе то празднование, что некогда совершалось в честь солнцестояния, языческое и земное, связанное с Матушкой Природой, – он слегка улыбнулся. – Но я не вправе запрещать вам веселиться, если душа того требует. Мир вам. И радость – если она вам по сердцу.
Он вернулся к своему чертежу. А за окном всё ещё пел город – Флоренция, возлюбленная светом, шумом и ликующей многоголосицей. Но в мастерской рождалась другая музыка – тишина, прорезанная вдохновением.
Когда на город опускалась тишина, тяжёлая и густая, как чернильный мрак, и праздничный гомон окончательно угасал в переулках, а переполненные вином тела флорентийцев начинали дружно похрапывать в постелях, Леонардо облачался в чёрный плащ с глубоким капюшоном, затеняющим лицо, и, укрывшись тенью, покидал стены своей мастерской. Он двигался быстро, почти бесшумно, будто призрак, растворяющийся в изгибах ночных улиц.
В одном из карманов его плаща лежал свёрток – плотный, тяжёлый, как обострённая мысль, не отпускающая разум. В этом свёртке были аккуратно завернуты инструменты, пахнущие железом, воском и ладаном.
Его путь вёл к госпиталю Санта Мария Нуова – серому, молчаливому исполину, что высился на перекрёстке улиц, неподалёку от мастерской. Скрипнула задняя калитка госпиталя, и в проёме показалась сутулая фигура привратника – дрожащая свеча в руке выхватывала из тьмы его измятое лицо с багровым носом и мутными глазами, едва державшимися открытыми после всей этой святой пьянки.
– Доброй ночи вам, мессер Леонардо, – пробормотал он с хрипотцой, моргая и косясь по сторонам, словно ожидал, что сама Смерть притаилась за ближайшей колонной.
– Это тебе, как договаривались, – тихо произнёс Леонардо, протягивая несколько флоринов. – За молчание…
Сторож привычно взвесил одну монету на пальцах, цокнул ею о зуб, обнажив при этом редкие гнилые клыки, похожие на обломки древних руин, и тут же спрятал золото за пазуху с такой сноровкой, будто прятал вовсе не деньги, а отпущение грехов.
– Опять до самого рассвета, синьор? – сипло спросил он, бросая быстрый взгляд по сторонам и прикрывая задыхающийся голос воротником.
– Как всегда, – коротко ответил Леонардо, не замедлив шага.
Он вошёл внутрь, и за ним снова захлопнулась дверь. Тишина обволокла его, как саван. Полы госпиталя скрипели под ногами, пахло уксусом, травами, кровью и древним воском. В этом месте витал запах смерти – не пугающий, а необходимый, как запах земли для дерева.
Он знал дорогу. Всё здесь было ему знакомо: длинные коридоры, свет лампад в нишах, тихий стон за дверьми. Он проходил мимо, не отвлекаясь, не оборачиваясь. Вскоре он достиг нужной комнаты – без окон, с каменным столом посередине. В углу – таз с водой, пучок льняных полотенец и резные ящики с инструментами. В тени лежало тело – покрытое простынёй, без имени и истории, словно сама Природа отдала ему этот сосуд на изучение.
Леонардо подошёл и, не торопясь, развернул свёрток, выложил инструменты в строгом порядке, как оружие перед битвой. Взял свечу, наклонился над телом.
– Прости, – шепнул он, – я пришёл за истиной.
И ночь смежила с ним уста…
Накануне праздника, в самый разгар летнего дня, когда город готовился к пышному торжеству в честь Иоанна Крестителя, Флоренция застыла в мрачном зрелище – казни. Несмотря на грядущее ликование, утро было хмурым, и небо, затянутое пепельными облаками, словно само отвернулось от того, что должно было произойти.
Воров в ту пору водилось множество, и с каждым годом они становились всё дерзостнее. Теснота улиц, мешки на поясах, набитые мелочью, и отвлечённость горожан на базарах – всё играло им на руку. Законы же были безжалостны: от выкалывания глаза каленым железом – до верёвки и виселицы. Путь из тюрьмы Стинке, с её гнилыми стенами и крысами, к эшафоту был короток, но неизменно ужасен.
Казнимого вывели с первыми лучами солнца. Он шёл закованный в цепи, спотыкаясь, худой, как сама смерть, с испуганным лицом и полураскрытым ртом, в котором давно не было зубов. Путь от улицы Гибеллина до окраины был долгим, и вдоль него собирались толпы – мужчины, женщины, дети. Особенно дети. Они забирались на повозки, залезали на плечи отцов, чтобы получше разглядеть, как палач будет делать своё дело.
Толпа гудела, как улей, и в этом гуле слышались хохот, улюлюканье, даже ставки: «Задёргается ли? Сколько шагов пройдёт в воздухе?» Иногда казнь превращалась в ярмарку.
– Да он, глянь, даже не понял, что всё, – пробормотал кто-то рядом.
Наспех сколоченная виселица казалась неумолимее любого собора. Вор теребил петлю и моргал, как слепой, ловящий последние отблески солнца. Лицо его было по-детски испуганным. Он порылся под рубахой, вытащил медный крестик на потемневшей верёвке, торопливо поцеловал его, перекрестился. Палач подмигнул народу и, ухмыльнувшись, крикнул:
– А ну-ка, станцуй нам гальярду, сорви-голова! Повесели честной народ!
Смех пронёсся по рядам. И вор… действительно «заплясал». Судорожно, страшно. Его тело затрепетало, как кукла в руках злого ребёнка. Ноги вытягивались, затем скручивались, и лицо стало багровым, затем – тёмно-синим.
Леонардо стоял неподалёку. С поднятой бровью и напряжённым взглядом он быстро, но точно выводил линии в своём альбоме – профиль, изгиб шеи, положение кистей, складки на одежде, взгляд, обращённый в пустоту.
– Леонардо… что ты делаешь? – в голосе Лоренцо ди Креди звучали потрясение и недоверие.
Маэстро не сразу ответил. Закончив штрих, он повернулся и улыбнулся, но взгляд его был отстранённым.
– Я рисую. Я изучаю. Я наблюдаю, – тихо произнёс он. – Ты видишь перед собой смерть, а я – выражение всей человеческой драмы. Это тело – уже не человек. Это форма, обнажённая от души, – и всё же наполненная её последним эхом.
Лоренцо стоял, будто прибитый к мостовой. Его друг, тот самый, что с такой любовью рисовал лик ангела, сейчас, казалось, был холоднее самого палача.
– Но… ты ведь тоже христианин, Леонардо, – прошептал он, перекрестившись.
Леонардо положил руку на его плечо:
– А разве эта казнь не сотворена людьми? Художник – зеркало природы. И природа человеческая не только свет, но и тьма. Да, этот вор был, возможно, грешником, но в его лице, застывшем в ужасе, я увидел не только его самого. Я увидел тебя. Себя. Палача. Толпу. Страх. Гнев. Месть. Бессилие. Всё сразу.
Он замолчал, глядя на виселицу. Толпа уже начала расходиться, кто-то купил пряник, кто-то обсасывал косточку, кто-то рассказывал детям, как в другой раз палач промахнулся. Жизнь возвращалась в привычное русло.
– Мы с тобой, Лоренцо, можем писать ангелов, но до тех пор, пока не поймём, как выглядит умирающий человек, наш ангел будет бездушной куклой. Я не рисую смерть. Я рисую – правду.
…И вот сейчас, войдя в анатомический театр – или, как его называли простолюдины, покойницкую – госпиталя Санта Мария Нуова, Леонардо быстрым шагом подошёл к лежащему на каменном столе телу повешенного накануне вора. В помещении царила неподвижная тьма, разбавленная лишь масляным светом одинокой лампы, и удушливый, тягучий запах гнили ударил в лицо. Он повязал платок вокруг рта и носа, привычным жестом развернул принесённый свёрток: остро отточенные ножи, пилы, стальные иглы, нитки – инструменты, которые он сам разрабатывал, изобретал, совершенствовал. Тихо, как заклинатель, он заговорил с мертвецом, будто прося у него прощения за то, что сейчас произойдёт.
Он всё чаще приходил сюда – в это царство мертвых, где среди тишины и теней рождалась великая наука о живом. Здесь, в ночной тишине, он начал писать свою книгу – Trattato di Anatomia, анатомический атлас. Он знал: каждая минута его работы здесь – вызов догмам. Католическая церковь веками запрещала любое проникновение в тайны строения тела. Булла папы Бонифация VIII категорически осуждала даже касание костей, не говоря уж о полном вскрытии. Но Леонардо был не богослов, а художник, инженер, наблюдатель природы, и верил: «не может быть грехом то, что способствует знанию».
Разрез за разрезом, слой за слоем – он открывал тайны сухожилий, связок, суставов. Он хотел видеть, как изгибается локоть, как напрягается бедро, как закручивается мускул. Как рождается движение. Как устроен человек – не внешний облик, а подлинная его архитектура. Он заново конструировал тело, как строил бы замок: с точными пропорциями, системами уравновешивания, инженерной логикой.
Он понимал: анатомия, которую преподают в университетах, – ложь, построенная на вторичных источниках, на переписанных текстах Галена и Авиценны. В Падуе, Болонье, Ферраре профессор читал с кафедры – читал с пафосом, с ударениями на латинских словах, – но ни разу не прикасался к ножу. Вскрытие производил цирюльник, молча, как слуга. И каждый трактат, каждая лекция напоминала игру в глухой телефон – искажение истины, мнимое знание. Леонардо же стремился к первоисточнику – к телу.
Он вспоминал, как в Болонье, в 1319 году, четверых учёных приговорили к смерти за то, что они осмелились разрезать труп на дому. Как в Венеции разрешалось вскрывать один-единственный труп в год – как будто природа даст себя узнать в таком скупом жертвоприношении. А он уже вскрыл тридцать тел. Не ради любопытства. Ради познания.
Его пальцы, чуть дрожащие от возбуждения, касались сосудов, рассекали кожу, отслаивали хрящи, распиливали кости. Он, как алхимик, добывал знание из плоти. Он писал, зарисовывал, комментировал: каждый нерв, каждую мышцу, каждый изгиб. Он отмечал то, что раньше не видели. Он не верил чужим словам. Он верил глазу и руке.
«Лишь тот, кто видел сам, имеет право говорить», – твердил он себе.
Леонардо не чувствовал ужаса. Лишь благоговейную сосредоточенность. В этом помещении с тяжёлым воздухом, среди мёртвых, он чувствовал себя ближе к жизни, чем где бы то ни было. Здесь природа раскрывалась ему, будто доверяя сокровенное. И он знал – однажды эти знания спасут тысячи жизней. А пока… пока он должен писать. Зарисовывать. Исследовать. Смотреть. Пока сердце человечества ещё стучит – пусть и в теле, давно лишённом своего биения.
Усердно работая, Леонардо делал короткие остановки. Он вытирал руки от крови и обильный пот со лба, и то делал детальные зарисовки мышц, костей, сосудов, то быстро записывал своей демонической левой рукой, что неустанно вела перо справа налево:
«И если скажешь, что лучше заниматься анатомией, чем рассматривать подобные рисунки, ты был бы прав, если бы все эти вещи, показываемые в подобных рисунках, можно было наблюдать на одном теле, в котором ты, со своим умом, не увидишь ничего и ни о чем не составишь представления, кроме разве как о нескольких жилах, ради которых я, для правильного и полного понятия о них, произвел рассечение многих трупов, разрушая все прочие члены, вплоть до мельчайших частиц уничтожал все мясо, находившееся вокруг этих жил, не заливая их кровью, если не считать незаметного излияния из разрыва волосных сосудов; и одного трупа было недостаточно на такое продолжительное время, так что приходилось работать последовательно над целым рядом их для того, чтобы получить законченное знание; что повторил я дважды, дабы наблюсти различия».
В своих многочисленных записях он писал:
– Помню, при вскрытии тела недавно казненной беременной женщины, меня поразило положение зародыша в материнской утробе, и я тут же составил рисунок этого состояния. Меня не отвращали ни застоявшаяся кровь, ни тошнотворный запах гнили, я был сосредоточен на изучении человеческого тела, наблюдая и анализируя как анатом.
— В то время как большинство художников моего времени расценивали анатомию в качестве инструмента для своих рисунков, я больше интересовался пониманием работы, совершаемой человеческим телом. Вскоре, незаметно для себя, я начал любоваться каждым объектом своих опытов, плодом природы, и прославлять его за удивительное совершенство пропорций. Как же величественна природа – во всем ее разнообразии и чувстве меры! Картина у живописца будет мало совершенна, если он в качестве вдохновителя берет картины других; если же он будет учиться на предметах природы, то он произведет хороший плод…
Бесчисленные эскизы и наброски Леонардо фиксировали мимику, жесты, позы, движения людей в самых разных эмоциональных состояниях. Иногда он приводил в мастерскую карликов, горбунов, людей с необычными физическими особенностями и с увлечением рисовал их с натуры, словно пытаясь разгадать тайну формы, сокрытую в аномалии.
Однажды, войдя к нему в мастерскую, Лоренцо ди Креди, истинный католик и его верный друг, с тревогой в голосе заговорил:
– Леонардо, мне страшно за тебя. То, чем ты занимаешься по ночам, небезопасно. Вскрытие тел – это не просто дерзость, это святотатство, богохульство, смертный грех. Скажи… это проявление твоей холодной бесчувственности или всего лишь очередное научное исследование?
Леонардо тяжело вздохнул и, на мгновение прикрыв глаза, ответил:
– Лоренцо… друг мой… я и сам не знаю ответа. Во мне живут два человека. Один – тот, которого вы все знаете: приветливый, остроумный, подверженный обычным слабостям. А другой… другой – странный, скрытный, незримый, который говорит со мной во сне и наяву, отдает приказы, требует: «Нарисуй это. Покажи в своём сочинении. Докажи». И я, словно раб, повинуюсь.
Лоренцо посмотрел на него пристально:
– По городу ходят слухи, Леонардо. Говорят, ты человек без сердца. Видят – красивый, изысканный, элегантный, в необычных одеждах, с манерами придворного. Но в тебе есть что-то пугающее. Люди замечали тебя на безлюдных улочках в ночной час, когда даже кошки боятся вылезать из подвалов. Добропорядочный флорентиец в это время сидит дома, как велят законы Магистрата. А ты – гуляешь, будто ты сам себе закон. Они боятся тебя. Они шепчут, что ты колдун. Что ты заключил сделку с дьяволом.
Он замолчал на миг, а потом добавил, понижая голос:
– Скажи, что думать человеку, когда он видит, как ты на рыночной площади, на спор, сминаешь подкову кобылы голыми руками? Да еще – правой, хотя все знают: ты пишешь и рисуешь левой, и можешь одинаково ловко писать обеими руками. Ты способен одновременно писать двумя руками два разных текста. Левой – справа налево, словно зеркало. Но кто диктует тебе эти слова, Леонардо? Кто водит твоей рукой?
Леонардо молчал.
– А что ты вчера говорил толпе? – продолжал Лоренцо. – Что хочешь создать крылья, чтобы летать, как птица? Что хочешь идти по воде, как Христос? Или передвигаться по дну моря, как рыба? Это уже не наука – это безумие. Люди этого боятся.
Он вдруг вспомнил еще один образ и выдал его с упрёком:
– А еще ты покупаешь голубей на Понте-делла-Карайя, платишь за них серебро и… выпускаешь. Люди не понимают, зачем. Стоишь, смотришь, как они улетают в небо, будто прощаешься с душой, улетающей в вечность.
Леонардо повернулся к нему и спокойно, почти грустно произнёс:
– Ни ты, Лоренцо, ни кто-либо из них – ни один человек – не понял, что я просто… свободный. Свободный, но бесконечно одинокий художник. Я спешу увидеть, услышать, познать, созерцать и созидать то, что мне даровано. Но моё творчество – не для толпы.
– Вот я и говорю, что ты отворачиваешься от людей, Леонардо!
– Нет, Лоренцо… Это они отворачиваются от меня. Они смотрят – и не видят. Слушают – и не слышат. Они живут, но не присутствуют. Я зову их – молчат. Пою им – не слышат. Одариваю цветами – топчут. Учу их наблюдать, анализировать, думать – они бегут в страхе. Они плывут в мутных, темных водах своего времени. А я… я просто пытаюсь зажечь для них хоть один луч.
Глава 8
Среди учеников Леонардо, живущих с ним в одной мастерской, были подающие надежды молодые люди, обладающие сильной индивидуальностью. Хотя и им было свойственно лениться. Леонардо, замечая эти проявления, любил рассказывать им прелестные, поучительные басни собственного сочинения. Вот одна из них:
– Бритва, выскользнув однажды из рукоятки, которую она превратила себе в ножны, и, раскинувшись на солнце, увидела, что солнце отражается в
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.