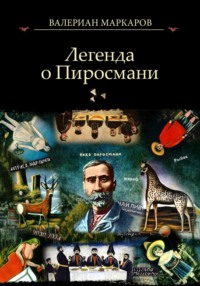Полная версия
Гении тоже люди… Леонардо да Винчи
Тут толпа, точно в древнем ритуале, набрасывалась на животное, чтобы разделать его. Толстый мясник отгонял людей, чтобы спокойно разрезать брюхо от груди до паха, извлечь лёгкие, печень, сердце и кишки, окутанные слоями белого жира. Зрители, подобно своим далеким предкам, которые когда-то плясали возле поверженного мамонта, смеялись, шутили и напивались молодым вином, жадно поедая сырую печень и прочие части, считающиеся одновременно лакомством и целебным продуктом от многих болезней.
В это субботнее утро Леонардо стоял в стороне, наблюдая за этой кровавой церемонией с отрешённым взглядом. Весь оставшийся день он провёл в тишине и одиночестве, поднявшись на склоны Монте Альбано, где среди дикой природы пытался найти утешение для своей потрясённой души.
На следующий день, после воскресной службы, местный приходской священник, разговорившись с бабушкой Лючией, заметил:
– Любезная синьора Лючия, позвольте обратиться к Вам с одной мыслью. Я заметил в вашем внуке Леонардо необычайное сострадание, редкое среди детей. Тогда как другие веселятся, наблюдая это варварство, лицо его искажается болью, словно тот самый инструмент, которым колют свинью, проникает прямо в его сердце. Позвольте предположить, что если бы он был направлен к духовному званию, он мог бы стать выдающимся проповедником, мудрым пастырем для прихожан. Да и язык у него, судя по всему, прекрасно подвешен.
Лючия хорошо запомнила слова священника. И вечером, когда вся семья, включая отца, собралась за традиционным воскресным ужином, она, заботливо накрыв стол, рассказала мужу и сыну Пьеро о разговоре со священником. Эти слова, полные надежды и предчувствий, стали пищей для их размышлений о будущем мальчика, о том, какой путь ему предстоит пройти.
Тем временем воспоминания о встрече с мамой не покидали юного Леонардо. Поздним вечером, когда в доме уже царила тишина, он тихо зажег свечу и сел за старое бюро деда Антонио. Левой рукой взял толстое гусиное перо, недавно аккуратно заточенное дедом перочинным ножом, и окунул его в бронзовую чернильницу. Пористый стержень впитал чернила, и упругое перо, скрипя по шероховатой бумаге, двинулось справа налево.
Это было письмо – наивное, искреннее и полное душевного отчаяния. Письмо, адресованное… Богу:
Господи, Я еще маленький, и грехов у меня пока нет, но кажется, они медленно собираются внутри меня. Дедушка Антонио говорит, что меня тянет делать что-то нехорошее. Это Ты испытываешь меня? Или, может быть, мы с тобой – просто игрушки в Твоих руках?
Бабушка Лючия рассказывала, что Ты – самый главный на Земле, хоть и живешь высоко на небе. Тебя надо любить и почитать. Я Тебя, конечно, люблю, но… Маму я люблю больше. Ты сможешь простить меня за это?
Ты знаешь всё. Скажи, пожалуйста, помирятся ли мои родители?
Господи, я благодарен Тебе за всё, что Ты для меня сделал раньше. Но сейчас я очень нуждаюсь в Твоей помощи. Моя Мама так страдает на Земле… Неужели в Твоём аду может быть еще хуже? Я всё время жду её. Почему Ты наказываешь добрых людей? Это действительно Твоя воля? Разве не всем людям положено быть счастливыми? Сделай так, чтобы никто на Земле никогда не плакал.
Я очень прошу Тебя, помоги мне. Это моя самая большая просьба. Обещаю больше никогда не тревожить Тебя – даже если настанет время умирать.
Он подул на лист, чтобы высушить чернила, осторожно сложил письмо и уже на следующее утро отправился на луг. Там, найдя в траве гнездо, он положил в него письмо, надеясь, что добрые и милые птицы – летающие высоко и свободно – доставят его могущественному адресату.
Глава 5
Знатное семейство, не имея иных наследников, всерьёз задумалось о будущем семилетнего Леонардо. Несмотря на его незаконное рождение, он был принят в дом как полноправный член семьи – с благословения бабушки Лючии и неохотного, но всё же одобрения деда Антонио. Поскольку отцу мальчика часто приходилось бывать во Фьоренце по делам службы, обязанность заниматься воспитанием внука сэр Антонио принял на себя с немалой долей рвения.
Однако затея эта быстро обернулась разочарованием – Леонардо с трудом выносил сухие дедовские нравоучения и уроки. Тогда, в надежде найти более действенный путь, старик устроил его в школу при церкви Святой Петрониллы неподалёку от Винчи. Там мальчику предстояло постигать основы письма, счёта и латинской грамматики. Но в счёте и письме он уже преуспел благодаря дяде Франческо, а вот к латинскому языку и церковному писанию не испытывал ни малейшего интереса.
Сэр Антонио был в ярости:
– Латынь – это не прихоть, которую можно игнорировать, – гремел он. – Это основа всякой учёности, неотъемлемый атрибут образованного человека! Ты ведь хочешь быть достойным продолжателем нашей фамилии?
Леонардо молчал. Он не хотел продолжать ничего, кроме своих собственных наблюдений. Школа с её тисками дисциплины казалась ему холодной и чуждой. Вместо занятий он всё чаще с утра уходил в лес, в любимые рощи и луга, где мог часами наблюдать за насекомыми, растениями, птицами, впитывая красоту мира, как губка.
Возвращаясь домой, он тут же принимался рисовать: листья, с точностью передавая их тончайшие прожилки, речных раковин с их замысловатыми панцирями, крылья бабочек, муравьёв, гусениц. Его зарисовки порой казались живыми, как будто схваченные волшебной рукой. Он сам ещё не знал, как это называется, но чувствовал, что внутри него просыпается нечто большее – почти священное: неодолимая тяга к искусству, к наблюдению, к воссозданию самой природы.
Он не копировал чужие картины. Учителем для него была природа. А его фантазия и поразительная, не по возрасту зрелая наблюдательность делали всё остальное.
Недалеко от Винчи велось строительство большого дома для одного знатного синьора. Работами руководил известный зодчий по имени Биаджио. Леонардо, пренебрегая школьными уроками, всё чаще наведывался на стройку, где с замиранием сердца наблюдал, как каменщики возводят стены, выверяя угол угломером, как с помощью хитроумных устройств поднимаются тяжёлые балки, и как зодчий сверяется с чертежами, увлечённо отдавая распоряжения.
Биаджио вскоре заметил мальчика. Между ними завязалась беседа, и мастер был поражён – не только его живостью ума, но и необычайной точностью вопросов. Леонардо интересовался не внешним, а сутью: как работает подъёмный механизм? Почему стены не рушатся под собственной тяжестью? Почему прочность арки так зависит от формы и пропорции?
Сэр Биаджио понял: чтобы ответить мальчику, нужно говорить о вещах, которые лишь немногие взрослые могли бы постичь. Так начались их первые импровизированные уроки – по арифметике, геометрии, основам алгебры и механики. И чем больше он объяснял, тем больше изумлялся: Леонардо схватывал всё на лету, словно эти знания уже дремали в нём, как семена, ждавшие пробуждения.
Прошло немного времени, и тот самый приходской священник, что когда-то советовал бабушке Лючии определить мальчика на путь духовного служения, пересмотрел своё мнение. Он видел: душа этого ребёнка ищет не проповеди, а познания, не слова – а формы, линии, движения. И потому однажды, не сказав ни слова деду Антонио, он лично отвёл смышлёного отрока в мастерскую одного живописца из Эмполи.
Стоило им переступить порог, как Леонардо едва не задохнулся – воздух был густ от гнилостного запаха яиц и творога, смешанных для приготовления темперы. В самой мастерской, стоя на шатком деревянном помосте, художник работал над своим полотном, делая тонкие правки мазком. Леонардо застыл: он заворожённо следил за движением кисти, за тем, как под пальцами мастера оживают фигуры, как в мраке пыльного помещения вдруг появляется свет, будто из самого неба.
Но, не в силах больше выносить тяжёлый запах, он сжал руками рот и, побледнев, выбежал на улицу, жадно хватая ртом воздух.
Однажды к сэру Пьеро, отцу Леонардо, пришёл крестьянин – тот самый, что на протяжении многих лет поставлял в дом нотариуса рыбу и дичь. Он был простым, но сметливым человеком, ловцом птиц и рыболовом, и частенько захаживал в их усадьбу с корзиной добычи.
– Сэр Пьеро, – начал он, слегка помявшись, – разрешите показать вам одну вещицу. – В руках у него был круглый деревянный щит, гладко вырезанный из инжирового дерева.
– Что это у тебя? – удивлённо спросил Пьеро.
– Плотник дал мне этот щит в обмен на рыбу, – пояснил крестьянин. – Работа добротная, и вот я подумал: раз вы часто бываете во Фьоренце и знакомы со многими художниками, может, передадите кому-нибудь из них? Пусть распишет его на свой вкус. А уж мы потом с вами за труд расплатимся, как положено.
Сэр Пьеро, человек сердечный и благородный, не отказал – но, повертев в руках простенький, но изящно сделанный щит, вдруг задумался. Что-то подсказало ему иной путь. Он не пошёл к знакомым художникам во Флоренции, а вернулся в дом и заглянул в комнату сына.
Леонардо сидел спиной к двери, сосредоточенно работая над картоном, на котором он с поразительной точностью выводил крошечных насекомых – таких живых и детально проработанных, что казалось, вот-вот они зашевелятся и поползут по поверхности бумаги. Маленькие тени от лапок, изгибы усиков, прозрачные крылышки – всё дышало жизнью и вниманием.
Пьеро на мгновение замер у порога, словно не желая прерывать это волшебство. Потом негромко произнёс:
– Леонардо.
Мальчик медленно обернулся.
– Посмотри на этот щит, – сказал отец, подходя ближе. – Думаешь, ты мог бы его расписать?
Леонардо встал, взял деревянный круг в руки и, долго, молча его разглядывая, провёл по его поверхности пальцами, будто пытаясь на ощупь понять, о чём хочет рассказать ему эта древесина. Потом спокойно кивнул и без слов вернулся к своему столу, как будто ответ уже был принят – и не им, а самой природой, жившей в нём.
Получив задание от отца, Леонардо долго ломал голову, что же изобразить на круглом щите. Мальчику хотелось, чтобы изображение не просто украшало предмет, но вызывало сильную, почти физическую реакцию – будь то страх, трепет или изумление. Он остановился на одной идее: изобразить нечто по-настоящему страшное – голову Медузы, чтобы всякий, взглянув на неё, содрогнулся.
Он основательно подготовил поверхность: зачистил дерево, покрыл его слоем гипса, выровнял и загрунтовал. Затем наступила пауза – он искал образ, который был бы не просто жутким, но по-настоящему живым.
В тот же вечер, вернувшись из леса, Леонардо принёс с собой целый террариум природы: ящериц с бронзовыми чешуйками, шершней, сверчков, змей, кузнечиков, летучих мышей, странных жуков и ночных бабочек. Он наблюдал за ними, изучал их движения, формы, линии крыльев и изгибы хвостов. Комбинируя части этих существ – живых и мёртвых – он начал создавать из них единую фантастическую тварь, некое порождение кошмара, питающееся страхом и тьмой.
Из этих деталей возникло страшилище: древний дракон с головой Медузы, зловеще выползающий из мрачной пещеры. Из пасти его вырывался ядовитый дым, из глаз – огонь, а чешуйчатое тело источало смрадное дыхание, отравляющее воздух вокруг. Работая над созданием, Леонардо будто впал в транс – он забыл про еду, про сон, про окружающий мир. Он не замечал даже невыносимого зловония, исходившего от принесённых им в жертву искусству созданий.
Когда через несколько дней дверь его комнаты распахнулась, на пороге с каменным лицом застыл дядя Франческо. Он резко отшатнулся, схватившись за нос и воскликнул:
– Леонардо! Что ты здесь творишь? Это невозможно! – Он поморщился, кашляя, – здесь смрад, как в гнилом болоте! Открой окно, сейчас же! У бабушки Лючии с утра сильнейшая головная боль. Она велела слугам проверить все крысоловки в подвале, думая, что в доме сдохла крыса. А виновник, выходит, ты! Боже правый, ты сумасшедший!
Он уже собирался подойти ближе, но его взгляд упал на сам щит – на чудовище, ожившее на его выпуклой поверхности, сотканное из всех возможных мерзостей природы, и на застывших в неестественных позах несчастных тварей, лежащих в лотках, в банках и на полу. Лицо Франческо на мгновение застыло, потом брови его сдвинулись, образовав одну непреклонную линию осуждения.
Леонардо же не испугался, не оправдывался. Он даже не оторвался от работы. Только тихо, почти шепотом, будто себе под нос, произнёс:
– Это из великой моей любви к искусству…
И вернулся к созданию своего ужасающего шедевра.
Прошло ещё несколько дней, и работа была завершена. Чудовище, рождённое фантазией мальчика, обрело своё пристанище на поверхности щита, словно жило там всегда, дыша зловонием и излучая гипнотический ужас.
Леонардо, вытерев кисть, встал, осмотрел своё творение и, как взрослый мастер, остался молча перед ним – не с восторгом, а с каким-то внутренним трепетом, будто боялся, что созданное им само вот-вот оживёт.
Когда в комнату вошёл сэр Пьеро, он сразу почувствовал тяжелый воздух, пропитанный запахами краски и чего-то иного – неуловимо тревожного. Он подошёл ближе… и остановился. На миг лицо его побледнело, он даже отступил на шаг назад, не сводя взгляда с изображения.
– Santo cielo… – прошептал он. – Это тот самый щит, что я тебе дал? Это… правда живопись?
– Да, отец, – спокойно ответил Леонардо. – Это живопись. И она служит своей цели – производить впечатление. Ты можешь забрать его.
Сэр Пьеро долго не мог вымолвить ни слова. Он словно оказался перед неведомой силой, заключённой в простом предмете. Это была не детская забава – это было искусство, которое смущало и завораживало, страшило и вызывало уважение.
Вскоре он принял решение. Щит с Медузой он крестьянину не отдал. Вместо этого он нашёл у одного старьёвщика во Фьоренце другой, ничем не примечательный щит – с изображением пронзённого стрелой сердца – и передал его вместо работы сына. Крестьянин был более чем доволен: он рассыпался в благодарностях и целый месяц приносил в дом нотариуса дичь, рыбу и свежие яйца, не беря за них ни монеты.
А щит, созданный Леонардо, сэр Пьеро повёз в город. Там, почти тайком, он продал его некоему купцу, сказав, что работа принадлежит неизвестному мастеру. Купец не стал торговаться – он выложил сто дукатов, не сомневаясь в подлинности таланта.
Так впервые в жизни творение юного да Винчи было оценено по достоинству. И пусть имя автора тогда осталось в тени – слава, как утренняя заря, уже поднималась над горизонтом его судьбы.
Когда Леонардо исполнилось десять, отец с молодой супругой Альбиерой перебрался во Фьоренцу, где сэр Пьеро начал службу нотариусом при Флорентийской Республике. Маленький Винчи, со всеми своими улицами, домами, садами и голосами, остался для него в прошлом. Завершалась одна эпоха, начиналась другая. За ними, следом за новой жизнью, последовали и дед Антонио с бабушкой Лючией, оставив Леонардо на попечении дяди Франческо – человека, который был для мальчика куда ближе по духу, чем родной отец.
День отъезда стал радостным для всей семьи – за исключением Леонардо. Его не брали с собой. Он молча наблюдал, как гружёная телега катится по ухабам, унося за собой знакомые силуэты и запахи дома. Чтобы заглушить душевную боль, он вновь – как всегда – ушёл туда, где его никто не предаст, где его всегда ждут: на свидание с Природой. Только она одна принимала его таким, каков он есть. Только она знала, как исцелить раны, не задавая ни единого вопроса. Она либо оберегала его от одиночества, либо – когда это было нужно – дарила ему его.
Прошло три года.
Однажды в Винчи пришла весть: дона Альбиера скончалась при родах, так и не произведя на свет дитя. Леонардо, получив эту новость, погрузился в молчание. Его мачеха была ласкова с ним, заботлива, и её доброта скрашивала серые стороны жизни. Теперь её больше нет. Печаль легла камнем в сердце мальчика.
С её уходом он вновь стал единственным наследником отца, пусть и внебрачным. Но сэр Пьеро, которому тогда исполнилось тридцать восемь, был человеком практичным и не склонным долго носить траур. Вскоре он женился вновь – на юной и прелестной Франческе Ланфредини, которая была всего на два года старше самого Леонардо…
Спустя год сэр Пьеро, однажды приехав в фамильное поместье в Винчи, неожиданно обратился к сыну:
– Собирайся, Леонардо. Мы едем во Фьоренцу. Хватит тебе болтаться по всему Винчи без толку! Здесь ты растёшь, как дикий зверёк, а там начнёшь учиться.
От этих слов у Леонардо тревожно заклокотало в груди. Он ещё не до конца осознавал, что именно его ждёт, но смутное предчувствие грядущих перемен вызывало в нём настороженность, почти страх. И всё же где-то в глубине души рождалось другое, несмелое чувство – как будто свежий, тёплый ветер перемен подкрадывался с горизонта, готовый распахнуть перед ним мир, полный новых возможностей, открытий, вдохновения.
Безмятежная пора детства – золотые дни, проведённые среди лугов и виноградников между Винчи и Анчиано, вечерние посиделки в доме деда, ожившие в ожидании субботнего приезда сэра Пьеро, – всё пролетело стремительно, но навсегда оставило в памяти Леонардо нежный, тёплый след.
В то утро он ходил в задумчивости, словно прощаясь с каждым кустом, каждым камнем, и, не в силах усидеть дома, отправился за город, туда, где бурлила жизнь – на стройплощадку, где зодчий Биаджио уже руководил возведением новой виллы.
Увидев Леонардо, мастер обрадовался, но тут же заметил на лице мальчика печаль.
– Что с тобой, Леонардо? Я тебя не узнаю. Чем омрачены твои глаза?
И Леонардо поведал ему о скором переезде.
Зодчий жестом пригласил мальчика присесть рядом, положив мозолистую ладонь ему на плечо, и, улыбнувшись, сказал:
– Не бойся перемен, Леонардо. Жизнь – это река. Она не стоит на месте. Всё, что меняет наш путь – не случайность, а зов времени. Позволь рассказать тебе историю, которая произошла со мной.
Пять лет назад я переживал, пожалуй, самый трудный период в жизни. Денег не было, семья – на грани. Шёл я однажды, сам не зная куда, и встретил на обочине дороги старика. Ветхий, почти как пергамент, он сидел под солнцем, согнувшись, в старых лохмотьях, перебирая восточные чётки.
Я сел рядом. Мы заговорили – о жизни, о бедах, о судьбе.
– Старик, – сказал я, – вот ты мудрый, подскажи: что мне делать? Ни работы, ни покоя. Сын ленив, дочь бесшабашна, жена – не хозяйка. Всё летит в тартарары.
А он посмотрел на меня своими подслеповатыми глазами, и, тихо, почти шёпотом, произнёс:
– Повесь у себя на двери табличку: «Так будет не всегда».
Я так и сделал.
И вот, спустя какое-то время, по дороге на работу, я вновь повстречал того старика. Он, словно дервиш пустыни, облаченный в свои лохмотья, сидел на той самой пыльной дороге, скрючившись от бремени лет, и медленно перебирал восточные четки. На указательном пальце его руки сияло, отражая солнечные блики, старое, покарябанное медное кольцо. Он смотрел вдаль своими морщинистыми, сильно слезящимися и подслеповатыми глазами и одному лишь Господу было известно, о чем он думал в тот момент.
– Приветствую тебя, мудрый старец, – поздоровался я, не в силах скрыть некоторого волнения.
Он не мог не узнать меня, я это понял, когда он жестом пригласил сесть рядом. Я охотно поделился с ним едой, что заботливо укладывала жена, провожая меня по утрам на работу. Старик долго, одними деснами, жевал кусок отварного мяса, при этом крепко сжав губы, чтобы не проронить ни капельки драгоценного и питательного сока. Было очевидно, что еда ему нравится, хотя он, наверняка, почти уже и не помнил вкуса мяса, питаясь, когда придется, одной лишь скудной пищей вдали от давно потухшего очага своего дома. Пристанищем ему чаще всего служили перевернутые лодки у реки, а передвигался он на своих скрюченных ногах. А порой, если ему улыбалась скупая удача, случайно посылая ему в попутчики добрых людей, то и на их телегах. Мы с ним вновь завели беседу, правда, не столь длинную, как в первый раз, поскольку свободного времени у меня уже было не так много. Но я успел поведать ему о своих переменах:
– У меня всё наладилось с Божьей помощью. Что ты мне сейчас посоветуешь? – спросил я его, улыбаясь. Старик же, посмотрев мне в глаза, тихо сказал:
– Табличку ту не снимай с двери. И помни, ничто не вечно под луной! – взгляд его вновь устремился куда-то вдаль, словно он ожидал появления из глубины веков самого царя Соломона, чтобы передать ему свое сияющее на солнце потертое кольцо, которое делает грустных людей весёлыми, а весёлых – грустными своей мудрой надписью «Всё проходит. И это тоже пройдет»…
Зодчий смотрел в спину уходившему Леонардо, а сам, вздохнув, подумал: «Вот так всегда – я утешаю людей словами, которые порой самому хотелось бы услышать от кого-нибудь».
* * *
В праздник Благовещения, 25 марта, во Фьоренцу верхом на двух лошадях въехали двое всадников – зрелый мужчина и юноша. Первым был нотариус Флорентийской Республики, сэр Пьеро, вторым – его четырнадцатилетний сын, юный Леонардо, чей облик с каждым днём всё явственнее вырисовывался как воплощение необыкновенной красоты и одухотворённости.
На протяжении всего пути из Винчи перед глазами Леонардо мерцал прощальный взгляд дяди Франческо – тот стоял у двери отчего дома, молчаливо махал рукой, и в его глазах застыла печаль и беспомощная любовь, которую Леонардо уносил с собой, как нечто бесценное.
С первых же шагов на земле Флоренции Леонардо ощутил, будто оказался в другом измерении – в городе, созданном для богов. Он жадно вдыхал воздух нового мира, насыщенный ароматами истории, камня, свежей штукатурки, воска, ладана и весенней надежды. Каждый камень, каждый резной карниз, каждая арка говорила с ним языком искусства.
Нет, это был не тихий, провинциальный Винчи с его двумя горделивыми достопримечательностями – замком герцогов Гуиди, некогда державших в руках власть над Тосканой, и церковью Санта-Кроче, в высоте и стройности соревнующейся с самим замком. Здесь, во Фьоренце, всё захватывало дух.
Перед взором Леонардо то и дело вставали очертания грандиозного Домского собора, словно сотканного из воздуха и света, колокольни Джотто, восходящей ввысь, как молитва, капеллы Пацци, где простота превращалась в совершенную гармонию, массивных и строгих фасадов дворцов Медичи, Ручеллаи, Питти – каждая из этих строений словно шептала на ухо что-то своё, о вечной красоте, о тайне пропорций, о человеческой гениальности, способной бросить вызов времени.
У Леонардо кружилась голова – не от усталости, но от восторга. Он чувствовал, как внутри него что-то пробуждается. Душа его, точно спящая птица, ощутила трепет близкого полёта.
Он прибыл в город, который должен был изменить его судьбу. И сам того не зная, сделал первый шаг к бессмертию.
Здесь, в самом сердце Фьоренцы, жили и творили свои бессмертные шедевры Донателло, Брунеллески, Учелло и Альберти – гении, чьё имя и дело навсегда вошли в анналы Возрождения. В городских мастерских не стихал гул наковален, беспрерывно вращались гончарные круги, а звонкий смех ремесленников, строгие возгласы строителей и оживленные переговоры купцов сливались в живую симфонию городской жизни. Аптекари смешивали снадобья, адвокаты и торговцы решали важные дела, парфюмеры творили ароматы, вдыхая в них дух эпохи.
Фьоренца не знала тирании, подобно многим соседним итальянским городам-государствам, где власть держалась на мечах и интригах. Здесь, благодаря щедрой благотворительности банкиров и купцов, преображался облик города – в мерцающем свете тосканского солнца возникали дворцы, храмы и улицы, полные жизни.
Городом правил могущественный и влиятельный клан Медичи – банкиры с древним родовым гербом: шесть красных шаров на золотом щите. По легенде, эти шары символизировали капли крови великана, когда-то терроризировавшего земли Фьоренцы, поверженного храбрым прародителем Медичи.
В те дни, когда Леонардо ступил на улицы Фьоренцы, во главе города стоял Козимо Старший – один из самых ярких и дальновидных представителей семейства Медичи. В возрасте тридцати лет он возглавил семейный банковский дом, а к сорока стал обладателем колоссального состояния – более 180 тысяч флоринов, владений шерстопрядильными фабриками и монополией на добычу дубильных квасцов, незаменимых в текстильном ремесле.
Образованный, он прошёл обучение под руководством гуманиста Роберто Росси, изучал латинские классические тексты и проникся к ним глубоким уважением. Козимо был практиком, твердо верившим, что человек, вооружённый знаниями, стоит десяти обычных людей. Вся его жизнь строилась на заветах отца Джованни Медичи: не давать прямых советов, быть осторожным в словах, избегать гордыни, судебных разбирательств и политических конфликтов, всегда оставаться в тени.