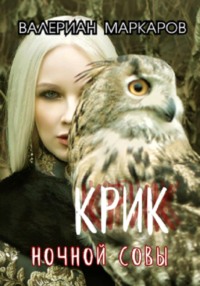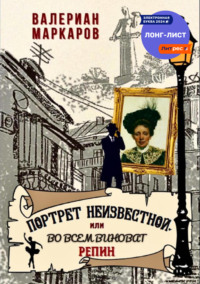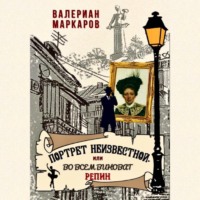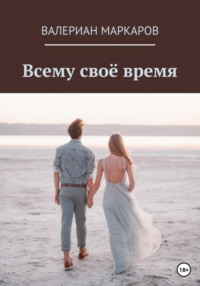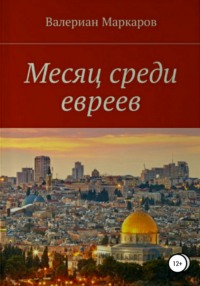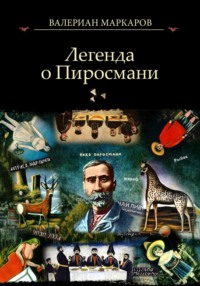Полная версия
Гении тоже люди… Леонардо да Винчи
Сфера должна была быть величественной: восемь футов в диаметре, с идеальными очертаниями небесного тела. Но за внешней простотой крылась сложнейшая инженерная задача – сварить две полусферы, добиться идеального сопряжения, поднять двухтонную конструкцию на высоту почти в девяносто метров и укрепить её над фонарём купола, туда, где начиналось небо.
Верроккьо, страстно любивший вызовы, немедленно приступил к проекту. Леонардо, как и другие старшие ученики, был рядом с Учителем на каждом этапе: участвовал в проектировке, следил за литьём, проверял расчёты, лепил модели и делал чертежи подмастерий. Он с жадностью впитывал всё – законы баланса, напряжение металла при сварке, нюансы креплений, способ удержания центра тяжести.
27 мая 1471 года, после долгих дней работы, медная сфера – гладкая, величественная, с внутренним укрепляющим каркасом – была готова. При помощи системы подъёмных кранов, заимствованной у самого Брунеллески, конструкцию стали медленно поднимать. Леонардо, словно молодой инженер, не отходил от механизма ни на шаг. Три дня и три ночи они с другими учениками Верроккьо работали на головокружительной высоте, под открытым небом, закрепляя сферу с крестом. Особую гордость вызывал метод припаивания: пламя для пайки разжигали, используя вогнутые зеркала, которые фокусировали солнечные лучи, нагревая металл до нужной температуры. Это было новаторством, на которое в тайне особенно надеялся Леонардо – он верил в силу света и в силу ума.
Позднее, следуя этому успеху, Верроккьо поручил своим подмастерьям и создание медного распятия, водружённого над тем самым куполом – распятие, которое венчало не только храм, но и устремлённость человеческого духа вверх, к небу, к истине.
В свободное от работы время Леонардо продолжал лепить. Он отливал в гипсе небольшие скульптуры – богов и героев, портреты античных философов, гротескные головы с причудливыми чертами. Эти произведения он продавал в лавках флорентийцев, принося тем самым в свой кошель небольшой, но стабильный доход. Он любил этот труд, соединяющий искусство и ремесло, а ещё больше – ту свободу, которую давала собственная идея, собственная рука, и возможность творить, когда никто не диктует замысел.
Так формировался он – будущий гений, в равной мере художник, инженер, изобретатель, анатом, скульптор, мыслитель. И весь город, казалось, ждал, когда он наконец раскроется в полную силу.
Печальной вестью для Леонардо стало известие о смерти деда Антонио, который пережил добрую бабушку Лючию всего на полгода. Было в том нечто странное, почти мистическое – словно их души не желали разлуки даже за пределами жизни. Ещё в детстве Леонардо считал деда чрезмерно строгим, чуть ли не суровым – особенно в сравнении с ласковой, кроткой бабушкой. Но с годами пришло понимание: за этой строгостью стояла не жесткость, а твёрдая житейская мудрость, почти философия, выточенная временем и плугом.
– Не стремитесь к чрезмерной славе, – говорил он своим детям и внукам. – И к почестям не стремитесь, ни к должностям высоким, ни к богатству без меры. Учености же – ровно столько, сколько нужно, чтобы не казаться глупцом. Держитесь середины во всем – это и есть путь верный, испытанный.
Любимыми его притчами были притчи из жизни. Он сравнивал доброго хозяина с пауком, сидящим в центре своей паутины и чутко следящим за каждым колебанием нитей:
– Вот так и мужчина – должен знать всё, что происходит в доме. И поступать разумно, не суетясь.
Он почитал порядок. Каждый вечер, к удару колокола Ave Maria, все члены семьи, независимо от возраста, пола и занятий, должны были быть в сборе. Сам дед обходил двор, проверяя ворота, запирал их и уносил ключи в свою спальню, пряча под огромную пуховую подушку, словно стражник рода. Ничто не ускользало от его взгляда: не слишком ли высоко поднят фитиль в лампе, не переварили ли пасту, не мало ли сена положено волам, – всё замечал и всё исправлял.
Но то была не скупость, а кропотливая, основательная бережливость. Он поощрял разумные траты:
– Купите лучшее сукно, не скупитесь. Оно и выглядит достойно, и прослужит долго. В итоге – и дешевле выйдет, и честь не пострадает.
Взгляды его, впрочем, оставались строго патриархальными. Женщина, по его мнению, была создана для кухни, детей и молитвы.
– Глупец, кто верит в женский ум, – говорил он с усмешкой, присущей тому времени.
Мудрость его, как казалось тогда Леонардо, граничила с лукавством.
– Будьте милосердны, как велит Святая Мать-Церковь, – учил он, – но предпочитайте друзей счастливых несчастным, богатых – бедным. Искусство жизни – в том, чтобы, оставаясь добродетельным, перехитрить хитреца. Не давайте взаймы, но отказывайте с улыбкой и благородством – это и деньги сохранит, и достоинство приумножит.
Он учил сажать деревья на межевой линии, чтобы тень от них падала на чужое поле, а урожай – доставался хозяину. Учил держаться родни и заботиться о ней с предельной преданностью:
– Чужому помог – слава на один день. Своему – почёт на всю жизнь. Дом – вот главное. Кровь – вот что связывает нас по-настоящему. Ради семьи не жалей ни денег, ни чести, ни самой жизни.
Перед смертью дед, человек расчетливый и предусмотрительный, завещал дом напротив Палаццо своему старшему сыну Пьеро, считая, что только он достоин вести дела во Фьоренце, где день, в котором не заработано ничего, почитается напрасно прожитым. Фамильное же имение в Винчи досталось дяде Франческо – по мнению деда, его лень и вальяжность лучше соответствовали сельской жизни.
И действительно, во Фьоренце дух расчета, трудолюбия и личной предприимчивости пронизывал всё – от ремесла до политики. Стучит ли торговец счётами, окрашивает ли шерсть ткач, смешивает ли свои снадобья аптекарь или наносит штрихи мастер кисти – все они жили мыслью о выгоде, успехе и добром имени.
Леонардо часто вспоминал деда, его густой голос, шаги в вечернем доме, его строгие глаза, внимательные и, кажется, в глубине души – добрые. С годами он понимал: дед его любил. По-своему. Сдержанно, но по-настоящему. И теперь, когда та любовь осталась лишь в воспоминаниях, она стала чище и ярче.
Весна, едва вступившая в свои права, напоила Фьоренцу запахами миндального цвета и свежевымытым светом рассветов. Город шумел, пел, спорил, торговался и молился – как всегда. Но в сердце одного юноши этот год стал переломным. В двадцать лет Леонардо да Винчи был официально признан мастером. Он вошёл в Гильдию Святого Луки – цех художников, скульпторов и миниатюристов, носившую имя евангелиста, который, по преданию, первым осмелился изобразить лик Пресвятой Девы.
Вступление в гильдию открывало путь к самостоятельности: теперь он мог открыть собственную мастерскую, нанимать учеников, принимать заказы от города, от церкви, от знати. Но за этими внешними атрибутами свободы скрывались и цепи: гильдия защищала, но и подчиняла, она помогала, но требовала, она соединяла, но не отпускала. Она хоронила своих членов с пышной обрядностью – и сковывала их при жизни законами и ритуалами.
За день до торжественного вступления Верроккьо вызвал Леонардо в свою мастерскую. Учитель сидел у окна, за которым вяло курился тёплый туман над крышами.
– Леонардо, – начал он не сразу, – ты знаешь, что правила гильдии требуют от художника быть гражданином города. Это не проблема. Но чтобы получить статус мастера, одного таланта недостаточно. Нужно жильё, нужно имя. А главное – по закону Республики – ты должен быть женат. Ты понимаешь, насколько это абсурдно? – голос его дрогнул. – Что они хотят – чтобы художник писал свои картины с младенцем на коленях и женой, жалующейся на дороговизну платьев? Глупцы. Глупые, бесчеловечные законы.
– Маэстро, – спокойно ответил Леонардо, – разве можно ожидать от художника, что он будет жить как обыватель? Жениться, завести лавку, жить по расписанию и творить по праздникам? Я считаю, художник должен быть одинок, свободен, как ветер над холмами. Его ничто не должно стеснять – ни брачные узы, ни расчёты, ни общественное мнение. Он должен быть, как зеркало: он не выбирает, что отражать – он просто отражает. Он – проводник природы, и в этом его миссия.
Верроккьо долго молчал, глядя в лицо юноше. Потом встал. Его движения были медленны, будто наполнены важностью момента.
– Тогда слушай меня, – сказал он, не отводя взгляда. – Я хочу, чтобы ты знал: сегодня ты покидаешь меня не как ученик. Ты уходишь как равный. Как тот, кто сумел открыть дверь туда, куда не ступала даже моя мысль. Я думал, что знаю тебя. Шесть лет мы были вместе: я учил тебя видеть, чувствовать, лепить и рисовать. Я видел твои первые наброски, видел, как ты впервые дрожал над кистью, – и как однажды ты взял её в руки так, будто держал душу мира. Но сегодня я понимаю – ты для меня навсегда останешься загадкой. И всё же… я люблю тебя. Как никто и никогда. Не как учитель любит ученика. Не как отец – сына. Больше…
Он на мгновение закрыл глаза, будто собирался с духом, и продолжил:
– Мне не важно, где ты будешь – в Неаполе, в Милане, за далеко морями. Я всегда буду с тобой. Мне нужна твоя близость – не телесная, а духовная. Мне нужно знать, что ты жив, что ты творишь, что ты думаешь. Ты – моё продолжение, ты – моя радость, ты – моя боль. И если бы это было возможно, я бы хотел, чтобы весь мир знал, как ты дорог мне. Но пусть это останется между нами.
Он снял с пальца серебряное кольцо, с которым он не расставался ни на миг.
– Возьми. Это моё благословение. Это моя клятва. Я люблю тебя, Леонардо. Будь свободен. Будь счастлив. И помни – ты не один.
Он вложил кольцо в ладонь Леонардо и обнял его – крепко, на миг, как обнимают один раз в жизни.
С этого дня имя Леонардо да Винчи стало звучать во Фьоренце не как имя ученика. А как имя Мастера.
* * *
Вскоре после вступления в Гильдию Святого Луки, Леонардо, за весьма скромную плату, снял помещение под собственную мастерскую. Его новый дом оказался в самом сердце Фьоренцы – в старом здании монастыря Сантиссима Аннунциата. Это было почти чудо: стены древнего мужского монастыря, пронизанные тишиной молитв, теперь вмещали творческую обитель молодого гения.
Мастерская состояла из пяти комнат, соединённых узкими переходами и скрытых взгляду мирской суеты. Самую просторную из них – зал с высокими потолками и двумя светлыми окнами, выходившими на внутренний клуатр, – Леонардо отдал под спальню. Здесь он спал и думал, здесь по утрам звучала его лютня. За спальней скрывалась малая, почти потайная комната – его личное святилище, где он творил, где хранил записи, инструменты и первые эскизы своих будущих гениальных замыслов. Остальные комнаты служили мастерской, где трудились его ученики – шестеро молодых людей, каждый со своей историей, но все – с жаждой познания. Один из них, по прозвищу Пакко, готовил еду и управлялся с хозяйством, позволяя остальным не отвлекаться от работы.
Леонардо был безмерно счастлив своей новой обителью, уединённой, полутайной, будто созданной для размышлений и созерцания. Само расположение мастерской казалось божественным даром – в стенах монастыря хранилась одна из самых богатых библиотек города: более пяти тысяч манускриптов – по философии, медицине, анатомии, механике, астрономии и древним языкам. Здесь он часами сидел над страницами, как над картами Вселенной, погружённый в миры, сокрытые в чернильных строчках.
Теперь, уже не связанный обязанностями ученика в боттеге Верроккьо, Леонардо с удовольствием гулял по городу. Его можно было увидеть повсюду – на набережной Арно, под сенью кафедрального собора, в садах Медичи, в зале дель Камбио, на рыночной площади, где он мог беседовать с плотниками, мясниками, аптекарями или нищими. Он двигался по городу, как струя света – неуловимый, манящий, чуждый суете.
Высокий, с прямой осанкой, грациозной походкой, надушенный благовониями, сделанными им собственноручно из трав и смол, он производил впечатление благородного юноши, сошедшего со страниц рыцарского романа. Его одежда – чёрный камзол, тёмно-красный длиннополый плащ с прямыми складками и чёрный бархатный берет – выделяла его в толпе, придавая особую утончённость. В руках он часто держал свою любимую лютню, сделанную из серебром окованного конского черепа – странный, мрачноватый, но волшебно звучащий инструмент. На ней он играл, сочиняя песни, которые слагались будто сами собой, – как будто звучали откуда-то изнутри мироздания.
Он был красив. Но его красота не была простой. Высокий лоб, задумчивый и проникающий взгляд, длинные, как у античного героя, волосы, сильные руки, манеры, в которых было и благородство, и насмешка. Его присутствие озаряло собеседников, его слова – то блестящие, то язвительные, – подкупали ум, а смех был заразительным и редким. Он был рыцарем без меча, поэтом без книги, философом без кафедры. Но он владел шпагой с тем же мастерством, что и кистью. Его ловкость в бою равнялась его точности в рисовании мускула. Он мог останавливать на скаку испуганную лошадь, а его рука, сильная, способная согнуть язык колокола, была в то же время достаточно чутка, чтобы перебирать струны лютни с невыразимой нежностью или уложить на холст прозрачный мазок света.
Он часто заходил в церкви – скромные и величественные, тихие, погружённые в полумрак или наполненные пением монахов. Там, на стенах, он подолгу вглядывался во фрески: в движения рук и склонённых голов, в изгибы драпировок, в выражения лиц, застывших между землёй и небом. Он, казалось, разговаривал с ними глазами, слышал их безмолвные исповеди и запоминал каждую складку, каждый поворот тела, каждый ускользающий жест. Иногда он садился прямо на каменный пол, достав из кармана своего плаща тетрадь – маленький альбом, с которым не расставался никогда.
Тот альбом был его спутником, исповедником и лабораторией. На его слегка подцвеченных, шероховатых страницах жили лица и тела, животные, архитектура, уличные сцены, фантастические механизмы, причудливые облака и непостижимые улыбки. Он рисовал в нём быстро – лёгкими, уверенными, почти не касающимися бумаги штрихами, как будто хотел поймать саму сущность, ускользающую в тени.
Иногда он рисовал античные статуи – в садах Медичи или в клуатрах монастырей. Ему было важно уловить не только форму, но и ту загадочную внутреннюю жизнь, что, казалось, ещё теплилась под холодным мрамором.
Однажды на утренней прогулке по набережной Арно, когда небо было влажным и мутно-золотым, к нему подошёл Лоренцо ди Креди:
– Ты всё ещё носишь свой альбом в кармане, как тогда, в мастерской маэстро Верроккьо? – спросил он с лёгкой усмешкой, заглянув через плечо на открытую страницу с наброском нищенки в латаном плаще и босыми ногами.
– Лоренцо, друг мой, – улыбнулся Леонардо, не отрывая взгляда от рисунка, – альбом я ношу не ради Учителя… я ношу его ради себя. И тебе советую так же. И пусть в нем будет слегка подцвеченная бумага, чтобы ты не смог стереть нарисованного, а всякий раз должен был перевернуть страничку. Такие зарисовки нельзя ни в коем случае стирать, их надобно сохранять с крайним прилежанием, потому что существует столько форм и действий, что память неспособна их удержать. Поэтому тебе следует хранить эти наброски: они примеры для тебя и твои учителя.
Он любил бродить по городу – по тесным улицам, где черепичные крыши почти смыкались над головой, отсекая дневной свет; где зловоние сточных канав смешивалось с ароматом жареных каштанов и дымом благовоний; где за каждым углом можно было встретить что-то достойное зарисовки – жест, лицо, силуэт. Он наблюдал. Он искал. Он ловил суть.
В лавках красильщиков, где сквозь приоткрытые двери просачивались струйки алой, охристой или изумрудной жидкости, он замечал, как играет свет на влажной ткани. В проходах рынка – как звучит смех торговки, как меняется лицо спорящих мужчин, как мальчишка дразнит слепого музыканта. Он подолгу следовал за людьми, которых видел впервые: за старухой с кривой походкой, за горбуном, за странным бородатым типом, чья мимика казалась ему диковинной, почти театральной.
Однажды, весь день, до самого заката, он не сводил глаз с одного незнакомца – то приближаясь, то скрываясь в тени, быстро зарисовывая на ходу, в движении. Затем этот набросок он многократно переделывал, меняя ракурс, варьируя свет и линии, стирая всё, кроме главного – характера. Души. Лица, сквозь которое можно было прочесть судьбу.
– Рисунок – это не только линия, – объяснял он своим ученикам, сидя среди них вечером при свете масляной лампы. – Линия даёт форму, но это ещё не жизнь. Жизнь – в свете и тени. Вот, посмотрите: если вы нарисуете круг, он останется плоским. Но добавьте на одну сторону немного тени – и перед вами уже шар. Объём рождается из света, переходящего в тьму. Фигура оживает, когда она окружена воздухом и освещена, как в природе. Только так мы можем лепить формы – на бумаге, как в глине…
Когда Леонардо впервые прибыл во Фьоренцу, город был на вершине своего величия. Это была эпоха блеска, изобилия и дерзновенных устремлений. Бурным потоком развивались торговля, ремесла, банковское дело. От переизбытка богатства флорентийские патриции с лёгкой рукой тратили средства на украшение не только своих палаццо, но и храмов, площадей, городских празднеств. Всё, что могло восхищать глаз, услаждать слух, прославлять имя и укреплять власть, находило воплощение в мраморе, музыке и фресках.
Пиры длились неделями, шествия – часами, костюмы стоили как дома, а сцены на временных помостах превращались в театры небывалого великолепия. Никогда прежде поэзия, живопись и философия не цвели так пышно, как в эти десятилетия. И на этой золотой почве ренессансного расцвета родилось новое ощущение мира – острое, дерзкое, неуёмное, как юность сама.
Но вместе с искусством и праздниками расцветали и новые науки. География – некогда удел мореплавателей и монахов – стала здесь наукой из наук. Ведь Фьоренца нуждалась в сырье и новых рынках, а пути к Востоку после падения Константинополя в 1453 году оказались закупорены османскими пушками. Крупнейшие торговые дома, чуткие к грядущим бурям, устремили взор за пределы Европы. География, как и механика, как и экономика, становилась инструментом выживания.
В этом научном брожении особенно выделялся один человек – Паоло Тосканелли. Географ, астроном, врач, математик – он принадлежал к тому редкому роду титанов, которые не ограничивают себя рамками одного знания. Именно он, много лет спустя, даст юному генуэзцу по имени Христофор Колумб карту с предложением двигаться на Запад в поисках Востока. Но и до этого Тосканелли был фигурой почти легендарной – его уважали купцы и слушали мыслители, и в его доме на склонах Сан-Джованни собирались лучшие умы города.
Ближайшими его единомышленниками были Карло Мармокки, страстный любитель астрономии, и поэт-учёный Леон Баттиста Альберти – типичный homo universale, человек эпохи, совмещавший в себе черты математика, архитектора, экономиста, художника и философа. А ещё – Бенедетто дель Аббако, автор математических трактатов, по которым учились торговые клерки и юные банковские служащие. Его имя воспевал в латинских стихах гуманист Уголино Верино – настолько велик был вклад этого незаметного мастера чисел в процветание Республики.
Именно в это окружение жаждущий знаний Леонардо стал тянуться с особой силой. Ему было тесно в рамках боттеги. Хоть Верроккьо и давал ему многое, но искры науки, выхваченные на лету между эскизами и заказами, не могли утолить его бездонную жажду понимания. Леонардо чувствовал – там, за стенами мастерской, в тихих кабинетах, среди бумаг, астролябий и звездных карт, бьётся подлинное сердце знания. Там, где говорят не только о форме и цвете, но и о природе движения, строении Вселенной, загадках воды, ветра, света и времени. Там начинается подлинная наука – и к ней он, как мотылёк к свету, стремился всем своим существом.
Но и в это сияющее время над горизонтом начали клубиться первые тучи. С востока пришла весть: Константинополь пал. Турецкие корабли заперли морские пути к левантским рынкам, и флорентийцам пришлось искать иные дороги – через океан, через новые континенты, через изобретения и открытия. А значит, искусство должно было идти рука об руку с техникой, философия – с экономикой, поэзия – с чертёжной доской. Мир требовал не только красоты, но и пользы. Поэтому теперь писали трактаты не о добродетели, а о том, как усовершенствовать ткацкий станок, как увеличить урожай, как рациональнее вести хозяйство. И в этих новых задачах Леонардо чувствовал: время пришло. Он нужен – не как украшение, а как сила. Не как подмастерье, а как гений.
Главным направлением флорентийского искусства второй половины XV века был реализм – не отвлечённый, возвышенный, как в Средние века, а живой, зримый, рождённый наблюдением за природой и человеком. Искусство стало внимательным зеркалом повседневности. Оно угождало вкусам заказчиков – купцов, банкиров, патрициев, – украшая их дома и часовни, повествуя в красках о том, что было им близко: торжестве семьи, силе добродетели, о ликах святых, похожих на соседей по кварталу. Но за этой видимой простотой зреют перемены. Искусство начинает говорить о времени. В нем всё отчётливее проступают черты общественного движения, растущей ценности знания, личности, наблюдения.
Скульптура и живопись Верроккьо – самого уважаемого художника эпохи – уже не мыслились без точного расчёта, без знания перспективы и анатомии, без понимания света, веса и объёма. Искусство требовало научных оснований. От интуитивного вдохновения – к осознанному методу. И тем самым художник всё чаще переступал порог боттеги – и входил в кабинет учёного. Искусство становилось наукой.
Это соответствовало духу Флоренции. Город, насыщенный мастерскими, фабриками, красильнями и банковскими конторами, лучше других понимал цену точности. Здесь знали: без хорошей техники не будет хорошего товара. Почему бы не применить ту же логику к изящным искусствам?
В мастерских – боттегах – флорентийских художников всегда витал дух наблюдения и изобретения. Именно отсюда, из будничного интереса к совершенству, рождался подлинный исследовательский порыв. Живописцы и скульпторы, оттачивая технику, естественным образом приходили к вопросам геометрии, оптики, пропорции, структуры. Изучая натуру, они вступали в сферу математики, обращались к физике, пробовали себя в механике. Но для Леонардо всё это было лишь началом пути.
Он остро чувствовал: знаний, полученных у Верроккьо, ему недостаточно. Он стремился к большему – к основанию мира, к пониманию скрытых связей между вещами. Его тянуло к тем, кто владел ключами к закону движения, к свету и форме. Он обращался к флорентийским математикам, к астрономам, врачам, к людям науки, но при этом не спешил называть себя гуманистом.
– Да, я не гуманист, – говорил он однажды с ноткой иронии в голосе, – но, тем не менее, я принадлежу к интеллигенции, хотя многие во Фьоренце до сих пор считают художника всего лишь ремесленником. Однако хорошая ученость рождается из хорошего дарования. И если выбирать, кому отдать предпочтение – учёному без таланта или талантливому без учёности, – я скажу: хвала причине, а не следствию. Хвала дарованию.
День за днём, месяц за месяцем, имя Леонардо всё чаще звучало в разговорах флорентийцев. Город говорил о нём, как о чём-то чарующем и неизведанном. Кто-то восхищался его статью, другие – живым взглядом и речью, третьи – редким даром соединять в одном человеке красоту, разум и талант. Но всё это, казалось, мало волновало самого Леонардо. Он оставался глух к лестным толкам. Мирской шум – лишь шелест листвы за окнами его мастерской, где он продолжал в молчании оттачивать искусство. Его кисть становилась всё увереннее, его линии – точнее, его тени – живее. И всё же он чувствовал: чего-то не хватает. Без опыта – подлинного, осязаемого, пережитого – истина не обретается.
– Познание, не прошедшее через опыт, через ощущения, с которых всё начинается, – говорил он своим ученикам, – не порождает истины о подлинной природе вещей. Я не доверяю тем, кто, лишь воображая, пытается судить о мире. Воображение – прекрасно, но без опоры на реальность оно слепо, как птица без крыльев.
Под словом «опыт» Леонардо разумел многое: наблюдение за облаками и всполохами грозы, вскрытие тела и чертёж летательного аппарата, игру света на воде и скрипение древесных колец под нажимом руки. Он был одержим не только искусством – в нём горела вера в силу разума, в могущество знаний, добытых упорным трудом и сопряжённых с творчеством.
– Природа создаёт формы, – размышлял он, – но человек, вооружённый разумом, способен превзойти её. Там, где она останавливается, мы начинаем. Из дерева и камня, из света и воздуха, из звука и движения мы можем творить бесконечное множество вещей – быть творцами нового бытия.
Любопытство его не знало предела. Он жадно вбирал всё: знал названия минералов, следил за течением рек, наблюдал за рождением растений, слушал биение звёзд, ловил очертания пернатых в полёте, изучал повадки животных и движения марионеток. Он читал Оригена и Платона, беседовал с учёными-евреями и изучал Каббалу, вникал в алхимию и астрологию, не отвергая ничего, что могло хотя бы тенью приблизить его к истине. Он был верен механике и гидравлике, любил анатомию и музыку, геометрию и числа. Математика, по его словам, была единственной наукой, которая несла доказательства в самой своей сути.