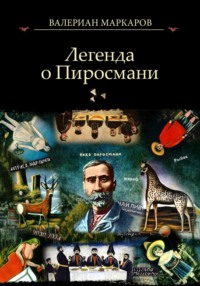Полная версия
Гении тоже люди… Леонардо да Винчи
Несмотря на колоссальную власть, Козимо не принял титулов и не нарушил республиканских устоев. Он освободил город от тирании, вымогательств и насилия, укрепляя внутренний порядок и умело лавируя в дипломатии с Миланом, Венецией и Неаполем.
Горожане знали своего правителя как скромного человека средних лет, с болезненной внешностью, но большим сердцем. Он щедро помогал нуждающимся, не выносил злословия, всегда находил точное слово, сохранял хладнокровие в любых обстоятельствах и с не меньшим усердием ухаживал за своим фруктовым садом на вилле Кареджи, чем за делами своего банка, раскинувшегося по всей Европе.
Под его руководством Фьоренца стала расцветать – расширялись торговые пути, крепла промышленность, нарастали банковские обороты. Козимо Старший Медичи – самый богатый человек Европы, имевший в должниках королей Англии и Франции, самого Папу Римского и государство Венецию, – щедро использовал свои средства на благо простого народа. В голодные годы за раздачу хлеба его прозвали «Отцом Отечества».
Стремясь превратить Фьоренцу в центр интеллектуальной жизни и западной культуры, Козимо первым среди Медичи начал активно покровительствовать художникам, учёным и поэтам. Его дворец стал одним из первых крупных гуманистических центров Италии. Именно благодаря поддержке этой влиятельной семьи здесь творили и прославляли эпоху Возрождения такие мастера, как Бенвенуто Челлини, Сандро Боттичелли, Филиппо Брунеллески, Микеланджело, Рафаэль, Тициан и многие другие. Более того, во многом благодаря помощи семейства Медичи, здесь мог работать Галилео Галилей.
Козимо Старший Медичи стал одним из первых меценатов, кто признал неизбежность появления художника нового, ренессансного, типа. «Этих гениев, – говорил он, – нужно воспринимать так, словно они не из плоти сделаны, а сотканы из звёздной пыли».
Отца Леонардо, сэра Пьеро да Винчи, в среде флорентийской аристократии уважали и ценили. По приезде во Фьоренцу он получил назначение поверенным при монастыре Сантиссима-Аннунциата и других влиятельных учреждениях города. Его деловая хватка позволяла постепенно расширять собственность – он покупал дома, а также плодородные земли и виноградники в окрестностях Винчи. Несмотря на растущее благосостояние, сэр Пьеро оставался человеком скромным, его доброта проявлялась в постоянных пожертвованиях церкви и помощи бедным.
Вскоре ему доверили завидную должность нотариуса Магистрата – значимую и почётную роль, дававшую право на просторное и изящно обставленное жилище недалеко от величественной Площади Синьории, где кипела жизнь республики. Эта работа требовала всей силы и времени, и чтобы обеспечить сыну надёжное будущее, было принято решение отправить Леонардо учиться в школу, где ему преподавали математику, музыку, пение, грамматику и письмо на вольгаре – живом, разговорном языке, пронизывающем улицы и рынки города.
Сам же классический латинский язык в те времена был не только ключом к церковному знанию, но и основой для всех официальных документов, договоров и наук – без него не обойтись было ни в политике, ни в науке. Латынь считалась хлебом насущным для всех, кто стремился к возвышенному образованию и власти.
Однако из-за того, что Леонардо родился вне брака, для него закрыли двери изучения латыни и древнегреческого – языков великих мыслителей и философов. Даже сам сэр Пьеро, надо сказать, тоже был не тверд в латыни, языке своих предков, продолжая оставаться человеком, которому привычнее было общаться и вести дела на вольгаре. Так и Леонардо, на всю жизнь остался uomo sanza lettere, или человеком без книжного образования, не владевшим правильной латынью.
Отец любил своего единственного сына, стремясь дать ему хорошее образование, и активно старался привить ему интерес к своему делу согласно незыблемым традициям семьи, чему Леонардо всячески противился – его не интересовали законы общества и он совсем не хотел становиться нотариусом.
– Ты скоро увидишь всю Фьоренцу, мальчик мой, – восклицал сэр Пьеро с волнением в голосе в первые дни после приезда сына из Винчи. – А значит, ты узнаешь большой мир! Но меня мучает одно: почему ты пишешь левой рукой? – его брови нахмурились, голос стал строже. – Возьми перо в правую, как все нормальные люди! Кисть для рисования держи как хочешь, но для работы нотариусом надо писать правильно, иначе начнут поговаривать, что твоей рукой водит нечистая сила! – Отец говорил это с жаром и даже испугом.
Но, увидев, как сын с любовью украшает буквы изящными завитушками, и насколько красивым и стройным было его письмо – не хуже, чем у опытных писарей – сэр Пьеро смягчился и перестал обвинять сына в дьявольском влиянии.
История повторялась. Как и в Винчи, Леонардо не горел особым рвением к учебе. Однако в математике, за считанные месяцы, он добился таких высот, что своими постоянными сомнениями и сложными вопросами ставил учителя в тупик.
– Отец, – жаловался мальчик, – в школе нас заставляют все заучивать наизусть. Сегодня наказали розгами одного мальчика за то, что тот забыл какую-то малость.
– Но учитель объяснил мне, – отвечал сэр Пьеро с оттенком строгой убежденности, – что заучивание необходимо из-за дороговизны книг. У самого учителя их всего несколько, а у других и того меньше.
И правда – книги тогда были предметами роскоши, редкими сокровищами, хранившимися скорее для красоты и статуса, чем для чтения. Рукописные манускрипты создавались с огромным трудом и требовали невероятного времени и средств, поэтому ученикам приходилось зубрить их наизусть.
– И прошу тебя, Леонардо, – голос отца стал тверже, – не спорь с учителем! Его слово – закон, непререкаемая истина!
Но, несмотря на все эти кажущиеся сложности, Леонардо, как и прежде, не переставал тянуться ко всему новому и интересному. Музыкальный слух, несомненно унаследованный от его любимого дяди Франческо, позволял ему легко овладевать игрой на флейте и лире. Он не просто учился – он виртуозно импровизировал, заставляя завидовать даже опытных музыкантов.
Однажды вечером, когда звуки его флейты нежно наполняли соседнюю комнату, он случайно услышал разговор деда с отцом. За дверью доносились напряжённые голоса.
– Говоришь, он умнее учителей? – дед Антонио прищурился, не скрывая недоверия.
– Да, отец, – спокойно отвечал сэр Пьеро, – вчера беседовал с главным учителем. Он сказал, что Леонардо поражает всех своей необычайной легкостью и ранней строгостью мышления. Что он талантлив почти во всем – математика, геометрия, физика, музыка, живопись, скульптура… Но есть и недостаток: «множественность его дарований и непостоянство вкусов». Мол, сын ваш жадно скачет от одной науки к другой, будто хочет охватить всё человеческое знание сразу.
– Но ведь этим нельзя прокормиться! – ворчливо ответил дед. – Пьеро, скажи, какой толк во всей этой премудрости? Кем он станет? Нотариусом, как ты и я? Нет, увы, не станет! Он – незаконный, ему не позволят! Бастард не получит титул нотариуса!
– Да, но есть другие пути… – начал возражать сэр Пьеро.
– Какие «другие»? – перебил дед с резким тоном. – Королевские бастарды – да, они есть везде, мы знаем. Хорошо быть незаконным сыном короля! Но ты – не король! – голос его стал суровым и бескомпромиссным. – Вот Франческо, мой законный сын, сидит дома и не работает! Не желает! Не имеет интереса, видите-ли! – он развел руками. – И Леонардо, внук, сейчас тоже дома сидит и не работает. Он – незаконный!
– Отец, не сравнивай моего сына с бездельником Франческо! Леонардо умен! – горячо возразил сэр Пьеро.
– Вот в этом и беда, что он умен. Но незаконный. А нам всех кормить надо, да ещё при этих грабительских налогах! – дед ударил ладонью по массивной амбарной книге, в которой вёл тщательный учёт доходов и расходов семьи. – Мой совет тебе, Пьеро: вся эта латынь, музыка и прочая ерунда никому не нужна. Пусть лучше идёт учиться ремеслу – чему-то практичному, чтобы мог зарабатывать на жизнь.
Громкий захлоп амбарной книги словно отрезвил обоих. Тяжесть сказанных слов повисла в воздухе, заставляя задуматься над будущим молодого Леонардо, чья судьба уже казалась предрешённой суровой необходимостью.
А через некоторое время в жизнь Леонардо вошёл один необычный человек – аптекарь, практиковавший неподалёку от церкви Санта-Мария Новелла. Увлечённый травами и их чудесными свойствами, тот не только готовил ароматные настои и мази, но и охотно делился своими знаниями с любознательным юношей. Леонардо с воодушевлением стал собирать травы в полях, сушить их, учиться распознавать их аромат, вкус и силу. На балконе дома сэра Пьеро, под солнцем, на верёвках висели пучки шалфея, мяты, розмарина, зверобоя, лаванды и базилика, источая тонкое, волнующее благоухание.
Когда однажды отец, возвращаясь домой, увидел эту ароматную гирлянду, он остановился в изумлении, подняв брови:
– Леонардо, что за цветы ты развесил по всему балкону? – строго спросил он, – Уж не собираешься ли ты, не приведи Господь, стать аптекарем?
Он не дал сыну и рта раскрыть, чтобы объясниться, и, подняв палец, добавил со всей решимостью, на которую был способен:
– Я запрещаю тебе ходить в аптеку при Санта-Мария Новелла и общаться с теми монахами-доминиканцами, что готовят свои эликсиры и снадобья! Они не так безобидны, как кажутся!
Леонардо нахмурился и, не скрывая удивления, спросил:
– А что тебя так отворачивает от трав, от масел, от знания? Они ведь лечат… помогают.
Сэр Пьеро вздохнул и посмотрел на сына с усталой, тревожной нежностью. В его голосе вдруг прозвучала не злоба, а забота:
– Под видом масел, настоек и вытяжек, сын мой, – сказал он, – они хранят в своих склянках и нечто куда более тёмное. Яды. Жуткие яды. Некоторые из них действуют быстро, другие – медленно и коварно. Яды, что уносят жизнь прежде, чем успеешь произнести имя Господа. Кантарелла… – он произнёс это слово шёпотом, будто само его звучание могло навлечь беду. – Мучительная смерть, от которой не спасёт ни лекарь, ни исповедь.
Он подошёл к сыну ближе, понизил голос, будто даже стены могли подслушать:
– Поверь мне, я знаю. Мне, как нотариусу Магистрата, часто приходится сталкиваться с этим ужасом. Мужья избавляются от стареющих жён, жёны – от неверных мужей, любовницы – от женатых кавалеров, а дети… – он тяжело выдохнул, – дети отравляют родителей, чтобы заполучить наследство. Всё это – тайные войны, скрытые под масками приличий. Фьоренца не только город искусства, сын мой. Это и город ядов, интриг, мести и зависти.
Он положил руку на плечо Леонардо и, глядя в его глаза, сказал уже почти с мольбой:
– Я прошу тебя, сторонись этого греха. Не всё знание приносит свет. Есть и такое, что ведёт во тьму. Учись, но не позволяй своей душе стать добычей тех, кто плетёт ядовитые сети под видом науки.
Леонардо молча кивнул, но в душе у него продолжала звучать тревожная мелодия. Он чувствовал: за внешним блеском города скрываются тени, и эти тени уже начали касаться его судьбы.
Но сэр Пьеро ошибался в своих предположениях о выборе сына. Когда он в очередной раз увидел, как тот рисует цветок на их балконе со всеми его тычинками, затейливое насекомое в мельчайших его деталях, вечно спешащих куда-то людей с рыночной площади, еще что-нибудь другое, созданное природой и достойное изображения, он иначе взглянул на будущее сына.
Он собрал лучшие рисунки Леонардо и направился с ними к великому мастеру Андреа дель Чони, известному в художественных кругах под прозвищем Верроккьо. Мастерская художника уютно располагалась в одном из узких переулков Виа Гибеллина, где всегда витал запах свежих красок, льняных масел и древесной стружки. Раньше сэр Пьеро не раз помогал художнику оформлять кое-какие юридические бумаги, и сейчас убедительно просил его сказать, достигнет ли его сын Леонардо, отдавшись рисованию, каких-либо успехов.
Сэр Пьеро, нервно перебирая пальцами, протянул художнику рисунки и с надеждой заговорил:
– Маэстро, помогите мне, пожалуйста, разрешить тяжкие сомнения.
– Охотно, сэр Пьеро, – ласково сказал он, – всегда к вашим услугам. Что за сомнения вас терзают?
– Это рисунки моего сына, – начал Пьеро, – хочу узнать ваше мнение, есть ли у него талант. Если да – я отдам его к вам в ученики, если нет – придётся ему стать нотариусом, как и я. Никогда не думал, что у мальчишки такая страсть к искусству! Он любопытен до невозможности: насекомых изучает, растения, собрал целый дом букашек… Латынь забросил совсем и со всеми спорит. А вчера, зайдя в его комнату, я увидел целую гору новых рисунков!
Верроккьо, надев свои очки, внимательно изучал каждый штрих.
– Ваш сын – левша?
– Да, как вы узнали? – удивился Пьеро.
– По характеру линий и движений руки – легко распознать, – уверенно ответил художник.
Он погладил подбородок и произнёс, словно взвешивая слова:
– Приводите мальчика к нам, когда удобно, синьор Пьеро. Он будет жить вместе с другими учениками. Думаю, из него выйдет толк.
Сердце отца наполнилось облегчением и гордостью. Услышав такие слова, он решительно настроился передать сына в руки мастера.
Перед тем как впервые отвести Леонардо в мастерскую, он спросил строго:
– Ты уверен, что станешь первым, а не последним?
Юный Леонардо взглянул прямо в глаза отцу, и его ответ прозвучал твёрдо и решительно:
– Да.
С тех пор судьба мальчика была предначертана – все помыслы его будут отныне посвящены беззаветному служению Искусству, пробуждая в нем будущего гения.
Глава 6
В ту эпоху, когда юный Леонардо впервые ступил на каменные мостовые Фьоренцы, город сиял, как один из величайших культурных центров Европы – достойный носить титул «вторых Афин». Да, чума, чёрная смерть, лишь недавно оставила за собой глубокие раны, унеся половину горожан, но дух флорентийцев был несгибаем. Они не только не сдались – напротив, с упрямой страстью продолжали созидать. Это был расцвет искусства, эпоха, когда сама красота становилась гражданским долгом.
Знатные семьи, оставив за спиной суровость средневековья, переселялись в изящные, залитые светом палаццо, возводили новые церкви, монастыри, больницы для бедных и украшали город фонтанами, скульптурами, площадями. Бросая взгляд на сияющие фасады и лепнину, на гранитные лестницы и сандаловые двери, юный Леонардо чувствовал, что его душа откликается – здесь, в этих камнях, в этих тенях и лучах, в этих людях, он узнавал своё будущее.
Он часами мог стоять, запрокинув голову, перед величественным куполом собора Санта-Мария-дель-Фьоре – созданным гением Брунеллески. Он вбирал в себя цвета и ритмы фресок Джотто в Санта Кроче, уже сто лет украшавших стены, – и не мог оторвать взгляда от проникновенных сцен Мазаччо в капелле Бранкаччи в церкви дель Кармине. В Санта-Мария Новелла, что стояла неподалёку от монастырской аптеки доминиканцев, он подолгу задерживался у алтарей, несмотря на категорический запрет отца появляться в тех местах. Там он видел не просто картины – он ощущал зов высшего мира.
Именно здесь, во Фьоренце, он впервые оказался среди людей подлинной культуры – мыслителей, художников, архитекторов, гуманистов. В этом городе сама улица дышала вдохновением, и каждый балкон словно шептал: «твоя дорога – Искусство».
Эта дорога, в тот ясный весенний день, привела четырнадцатилетнего Леонардо, в сопровождении его отца, сэра Пьеро, к каменному порогу знаменитой художественной мастерской – боттеги Андреа дель Чони, более известного под прозвищем Верроккьо. Мастерская находилась в самом сердце Флоренции, в лабиринте шумных улиц недалеко от Виа Гибеллина, среди лавок кожевников, книжников и ювелиров. Над дверью висела скромная, но уверенная табличка: «Andrea di Michele di Francesco di Cione Verrocchio, Pittore e Scultore».
Скрип деревянной двери отозвался в груди мальчика лёгкой дрожью. Внутри витал стойкий запах красок, лака, сырой извести и нагретого солнцем дерева. В полумраке тишину нарушал только лёгкий цокот кистей по полотну да редкие звуки голосов учеников, снующих между мольбертами.
Встречать их вышел, как показалось Леонардо, человек хмурого нрава – с прищуром, резким голосом и испытующим взглядом:
– А, вот и вы, синьор Пьеро! Решили, значит, прийти? А это, должно быть, ваш сын? – произнёс он, окинув Леонардо цепким взглядом, словно пытаясь заглянуть в самую глубину его души.
– Да, синьор Верроккьо, как и договаривались, – ответил сэр Пьеро, и, сделав лёгкий, но настойчивый жест рукой, подтолкнул сына вперёд. – Принимайте ученика!
Леонардо замер на пороге, ошеломлённый новым миром – мольберты, гипсовые головы, палитры с выцветшей охрой и киноварью, этюды тел и драпировок, резные рамы и полуслепой свет из верхнего окна. Всё в этом месте было иным, полным загадки и предвкушения.
Отец шагнул к выходу. Он уже всё решил.
– До встречи, Леонардо, – сказал он тихо, склоняясь к уху сына. – Помни, что дал мне обещание.
Он кивнул Верроккьо, коротко и твёрдо:
– Благодарствую! – и, не оборачиваясь, быстро вышел за дверь, оставив сына на пороге великой судьбы.
Так началась новая глава жизни Леонардо да Винчи – в городе гениев, в сердце Ренессанса, под сводами мастерской, где мальчик должен был стать Мастером.
Маэстро Андреа дель Верроккьо на первый взгляд вовсе не походил на великого художника или строгого наставника. Скорее, он напоминал обыкновенного лавочника или, быть может, пекаря, выбежавшего прямо из пекарни: одежда его была перепачкана белёсым алебастром, а волосы у висков покрыты пылью, как мукой. У него было круглое, полноватое лицо с двойным подбородком, но при этом в его глазах – живых, цепких, чуть прищуренных – мерцала острая наблюдательность и природный ум. Этот человек видел всё и всех – насквозь.
Он встретил взгляд Леонардо в упор – долго и пристально – и, не улыбнувшись, произнёс хрипловато, коротко:
– Будешь называть меня Учителем.
Затем, не теряя времени, громко крикнул куда-то в глубину мастерской:
– Сандро! Покажи новому ученику наше хозяйство и место, где он может оставить свои вещички!
Из-за перегородки вышел молодой человек лет двадцати. Он на ходу вытирал промасленные руки тряпицей и по-мальчишески поправил чёлку. Его густые чёрные волосы были аккуратно разделены ровным пробором, словно проведённым линейкой. У него был крупный, но гармоничный нос, выразительные тёмные глаза и немного выступающий вперёд, тяжёлый подбородок, придававший лицу решимость. Лишь лёгкая сутулость, видимо, от привычки склоняться над мольбертом, немного нарушала благородную стать фигуры.
Он подошёл к Леонардо, улыбнулся добродушно и протянул руку:
– Алессандро ди Мариано Филипепи. Но зови просто Сандро. Или, как здесь принято, Сандро Боттичелли.
– Боттичелли? – удивился Леонардо, чуть смущённо. – Это ведь… «бочонок»?
Сандро весело рассмеялся, запрокинув голову:
– Да, точно так. Так прозвали моего старшего братца – за его внушительные формы. А потом это прозвище прилипло ко всей нашей братии. Нас пятеро в семье, и всех зовут Боттичелли. Но звучит же весело, правда?
– Я Леонардо из Винчи, – скромно отозвался мальчик.
– Приятно познакомиться, Леонардо, – кивнул Сандро. – А ты не робей. Здесь у нас, как ты заметишь, всё по-настоящему. И весело, и трудно. Сам недавно здесь. До этого учился у монахов в Санта-Мария Новелла, а потом попробовал ювелирное дело. Работа с золотом и камнем – вещь тонкая, но душа у меня всё же больше лежит к живописи. Я учился у маэстро Филиппо Липпи, в Прато. Может, слыхал о нём?
Леонардо молча покачал головой – имя художника ему ещё не встречалось.
Сандро, не задерживаясь, повёл его дальше, сквозь гомон, свет и запахи мастерской:
– Видишь, сколько здесь учеников? Много кто младше тебя. А наш Учитель, маэстро Верроккьо, словно отец для всех. Он учит не только рисовать, но и лепить, работать с деревом, резьбой, делает нас грамотными. Даже арифметику заставляет зубрить, представляешь?
Они прошли мимо нескольких мольбертов, за которыми мальчики с сосредоточенными лицами срисовывали драпировки или головы святых, и остановились перед столом, уставленным гипсовыми моделями человеческой руки и черепа.
– Маэстро говорит: «Математика – мать всех наук, а геометрия – мать рисунка и отец всех искусств». Он повторяет это снова и снова. Не удивляйся, если услышишь это сегодня не один раз.
Сандро снова кивнул в сторону Учителя:
– Вон он – видишь, как бродит туда-сюда? Он всё время в мыслях. Что-то вымеряет, обводит, комбинирует… Иногда может вдруг схватить деревянный обрубок и начать превращать его в крыло ангела или локон Мадонны. Или целый день придумывать, как свет падает на ткань. Он ищет совершенство. Всегда.
Действительно, Верроккьо никогда не сидел без работы. Он всегда трудился над какой-нибудь статуей или над живописным полотном, быстро переходя от одной работы к другой, лишь бы только не терять формы.
Леонардо, заворожённо глядя на маэстро, почувствовал, как в груди его зреет странное, новое чувство – будто он оказался в мире, где всё имеет смысл, где каждая линия – шаг к истине, где его бесконечный интерес ко всему живому, к свету, форме и движению – не порок, а благо. Здесь, среди запаха льняного масла, пыли от мрамора и голосов юных подмастерьев, он впервые по-настоящему почувствовал: он – дома.
В это время они входили в большое, светлое помещение, напоённое запахами краски, древесной стружки и влажной извести. Оно совмещало в себе всё сразу – торговую лавку, мастерскую и одновременно дом хозяина. Двери здесь никогда не запирались – с утра и до позднего вечера они были распахнуты настежь, впуская солнечный свет, свежий ветер с улицы и бесконечный поток людей. Здесь царила особая, почти алхимическая атмосфера: мир, в котором рождались краски, формы и смыслы.
Пол был усыпан древесной пылью и каплями алебастра, на верстаках лежали резцы, линейки, кисти, плоские камни с разведёнными пигментами, гипсовые слепки лиц, рук и целых тел. Из-под потолка свисали сушащиеся холсты и тряпичные мешочки с минералами. Жужжали мухи, стрекотали сверчки, потрескивали угли в горне, и где-то в глубине помещения раздавался звон молоточка, ударявшего по бронзовой пластине.
– Мы здесь живём, как одна большая семья, – увлечённо продолжал Сандро, обводя рукой пространство. – Видишь тот длинный стол? Там мы все вместе едим. А спим – вон там, – он указал направо, на небольшую каморку с низким потолком и грубо сколоченными кроватями, покрытыми соломой.
– Мы и правда как братство, – добавил он с лёгкой улыбкой, – Учитель так и говорит: братство ремесла и духа. У каждого есть своё дело: кто-то готовит штукатурку, кто-то растирает краски до нужной мягкости, кто-то подметает пол, ходит за покупками, а кто уже поопытнее – получает честь раскрасить фигуру или фрагмент фрески. Но только строго по эскизу самого маэстро. Учитель не терпит вольностей! Никакой самодеятельности. Все должно быть точным и выверенным – как в архитектуре.
Леонардо слушал затаив дыхание. У него всё внутри трепетало – не от страха, нет, а от предчувствия того, что он наконец оказался в мире, где всё имело смысл, где можно было учиться всему сразу и ничего не казалось лишним: и живопись, и наука, и природа, и металл, и цвет.
Сандро, между тем, указал вверх, на деревянную балку, к которой верёвкой был привязан небольшой мешочек.
– Видишь тот серый мешок? Там хранятся деньги. Учитель говорит, что доверие – это основа всего. Любой из нас может взять оттуда столько, сколько нужно, чтобы купить еды на рынке. Представляешь? И никто никогда не берёт лишнего. Потому что мы – братство. Мы здесь не только работаем – мы живём. Живём искусством. Живём ради него.
Леонардо молча кивнул. Он чувствовал – он попал туда, куда давно стремилась его душа.
Они вместе вошли в первое помещение мастерской – огромное, с высоким, почти соборным потолком, из которого свисали балки, перекинутые канаты и пучки трав для красителей. Здесь всё дышало трудом, ремеслом, превращённым в искусство. Слева стоял чёрный кузнечный горн, рядом – мехи и массивная наковальня, на которой гулко звенел металл под ударами молота. Искры рассыпались, как золотой дождь, каждый раз, когда юный помощник отбивал очередной узор на пластине. Чуть дальше поднимались деревянные подмостки – их облюбовали скульпторы. Там, в окружении гипсовой пыли и разбросанных инструментов, вырастали фигуры – то ангел, то античный герой, то сама Богоматерь, строгая и прекрасная.
В других, ещё более просторных помещениях, прятались печи для плавки бронзы, столярные верстаки, ящики с пигментами, груды досок, гипсовые слепки, рулоны холста и сложенные в углу мешки с воском, алебастром, мёдом, мёдом и мелом. В воздухе пахло древесиной, сырой глиной, известью, чуть прогорклым оливковым маслом – запахом настоящей боттеги.