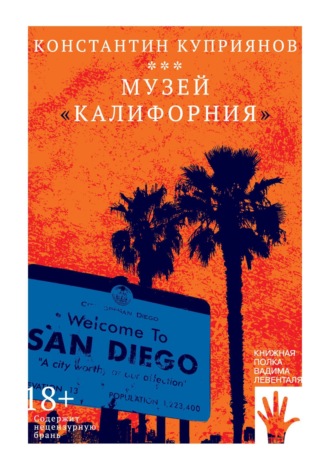
Полная версия
Музей «Калифорния»
«Короче, ее арестовали, прикинь, ей шестнадцать лет, прямо на уроке, за то, что у нее пуховик был с надписью „ЗА НА*****ОГО“». – «Что, так и написано, со звездочками?» – уточнил. Попутчица кивнула: «И она в нем пришла так в школу, и на нее, как на живца, поймали папашу, и тоже арестовали. За что? А за то, что денег дал! А маму тоже хотели арестовать, но она пришла в шапке с сине-бело-красным флагом, и ее не арестовали». Думаю, что лучше бы сейчас вынуть голову из окна и блевануть прямо на асфальт на скорости сто тридцать, с которой я несусь, блевотину намотает на позади идущую машину, и они там охереют, начнут догонять, сигналить, может, даже подрежут, и буду объясняться: «Братцы, лучше вы, лучше пристрелите, чем слушать эту чушь о Родине!» А они такие: «А че ты Родину не ценишь, пес?! Слушай, что тебе говорят!» Пойдет по кругу эта бредятина, я опять как будто там, дома. А что я кочевряжусь? Не люблю что ли Родину или ее сплетни? О, как я люблю эту забористую неповторимую русскую дичь.
Оказалось, нет ничего более стремительно остывающего, становящегося на удалении более бессмысленным, чем общественно-политические страдания Родины. До меня доносится оттуда только навязчивый звон несправедливости. Я читаю и смотрю, как жвачку, и узнаю, что все это настолько касается меня, насколько я вовлечен в это. Но внутренний голос противится, когда я решаю вроде как поставить точку и воздержаться от дальнейшего жевания. Это рвет мою призрачную пуповину с отечеством, это отнимает у меня даже фантомный корень, и я оказываюсь на третий год настолько здесь ничем, в пустоте пустыни, в разгаре лета, что ослепительный ужас бьет через позвоночник: а если я не русский, не россиянин, не человек? Я староват, как говорится, для этого дерьма. Мне придется оставаться хотя бы чем-то.
Пусть уж и дальше – как было много лет – прежнее отечественное, кисловатое дерьмо, зато понятное, знакомое, как свои пять пальцев, прошлое – ох, да вообще у него одни плюсы. К тому же, когда Попутчица рассказывает, глаза ее ярко сверкают. Однажды, правда, это сделается началом конца: в предпоследнем разговоре я брошу неосторожно: «Слушай, да это же общество терпил, чего ты ждешь от него?» – и ее перемкнет от ярости. Она припомнит и то, что я не выбирал себе эмиграцию, и что я не бывал дома N лет, и что я приставал к ней, когда она ясно сказала «нет», и что я потерял идентичность, не стал ничем определенным, не стал человеком без привязи. «Малыш, какое все это имеет значение? Это винегрет, малыш».
Но здесь, в американской Соноре, за много лет до нашей ссоры-фейерверка, в глубинке, в голубой тени горы, мы одно целое, и мы едем оба впервые увидеть L. Я увижу напряженного и немолодого мужчину. Приземистого, с прямоугольной головой и ястребиными глазами. Мне неловко смотреть на Попутчицу с L: с одной стороны, я привез ее, тащил на себе, убеждал, похлопывал по плечу, с другой стороны, я позволил ей соблазнить себя, вынырнуть ненадолго из расщелины смерти… И вот она подводит нас нос к носу. Дурацкая неловкая секунда.
Это наш парень, Дамиан, я поймал его. Ты будешь отомщен. Я смотрел ему в глаза минут пять от силы. Разговор затух, мы переминались с ноги на ногу, ожидая Попутчицу, чтоб она разорвала узы паузы. Мы, как собаки, тут обнюхиваемся всегда привычным ритуалом. Недоамериканцы, недорусские: «Давно тут?» – «Почти три года» (буквально через неделю исполнится три года моему октябрьскому переезду). – «Нравится?» – жмем плечами. Один вопрос на двоих – один ответ на двоих. Пока я их ждал, залез на северную гряду за городом. Пустил дыма, пустил душу полетать. Феникс простерся передо мной унылым ровным блинчиком. Огромные трассы и крошечные частные домики. Совершенно летний зной в конце октября, а с другой стороны – где осталась лежать обыкновенная необжитая пустыня – бегают зайцы и койоты. Одного я снял с зумом на камеру. Он покосился на меня и продолжил ковырять камушки и норки в поисках падали, или мусора, или зазевавшегося грызуна.
Бесконечные американцы бесконечно хайкают. Будний день, я не единственный молодой здоровый мужчина, который ничего не делает, идет по горной тропе. Маленькая толика любви отдалила меня от департамента смерти.
«По чему-нибудь скучаешь?» – L задает рубленые армейские вопросы, в его легенде отдельную строчку занимает байка о некоем таинственном пребывании армейским консультантом. Меня немного потряхивает от этой сапожьей прямолинейной простоты. Вообще-то, я тут буду задавать вопросы, старик. Дамиан-чик, мы сцапаем его, он наш. Осталось самое малое: доказательства. «По общению», – говорю очевидное. Попутчица уменьшается на глазах, она еще мечтает о своей эмиграции, она еще не понимает, что это такое и каково это – остаться тут без корня, в бесконечном конвейере капиталистической машины, который высасывает все время и Бога из тебя и превращает в унифицированного лыбящегося балбеса, – маленькая смотрит на нас восхищенно, как ребенок – на сказочных добрых исполинов. В ее фантазии она, должно быть, где-то посередине, уже на полпути на этот континент, и я не в силах ее отговорить и не в силах нанести ее иначе как пунктиром на карту Музея. Давай просто условимся, что она принесла мне вздох любви и силы? Не больше и не меньше. Я не могу написать ее, притворяясь, будто знаю, что там в ее голове. Да понятия не имею. Чужая голова для меня – это смерть. Женщину хотя бы можно познать чувственной, любовной работой. В нее можно войти и познакомиться с ее садом практически буквально. А в голову?.. Голова – это всегда выдумка of the self about a self.
«Иди обратно, в смерть», – Попутчица отпустила меня, когда четыре дня ее путешествия истекли, и нам сделалось не по пути, и я больше не мог ничего дать ей. «Принеси оттуда весть о том, что добудешь. Ты гениально пишешь о смерти. Ты словно утоплен в ней». Я послушно киваю, склоняю голову под тяжелым бременем. Граница тонкая. Я карабкаюсь на очередную вершину, чтобы узнать, что и за ней есть вершина. И так три мили – четыре с половиной километра, с редкой тенью, почти все время на солнце, по крошащейся тропе, по вздымающимся камням, через заросли тлеющих огромных кактусов. Моя Ведьма уже поселилась где-то в городе, на который я поминутно оборачиваюсь, и мы еще понятия не имеем друг о друге, хотя где-то в совершенстве все давно сотворено и проиграно. Мне надо выше подняться, чтобы она осторожно поскреблась в мою дверь. Ведьмак карабкается из меня на волю, человек без племени и родины, из давно потерянного края, предавший своих братьев, чтобы первую ведьмочку допустили до него для превращения.
«Чем занимаешься в Сан-Диего?» – наш небрежный разговор с L все еще длится. Натужный и пустой. Чтобы избежать паузы между тем, как он будто передает ее мне, а я принимаю, пушинку, принимаю. «Чем занимаюсь? Ну, вот последний час я рыскал по твоей квартире, поднял кавардак. Ну и понатыкал ты там камер! – я устал уклоняться, становиться невидимым. – Я взял образцы биоматериалов и отщелкал твой дневник. Чуйка моей внутренней ищейки говорит: я сорву с тобой куш. Дамиан, это наш парень!.. Еще не убийца, но я вижу в твоих глазах неспособность почувствовать. Такие самые опасные. Подлинные убийцы. Не сознающие, что убивают. Твое зло остановится на мне».
«Костя работает в полиции», – почему-то говорит вместо меня Попутчица, и L холодеет от ужаса, вздрагивает и начинает странным образом глядеть снизу вверх. Он не понимает, что и моему внутреннему ищейке, и моему внутреннему ведьмаку – охотнику на чудищ, помощнику превращающимся женщинам – еще только предстоит цикл рождения.
«Просто таблички в департаменте статистики заполняю, – со стыдом объясняю. – А так я писатель», – вспоминаю с робкой усмешкой. Я еще не успел себя самого короновать, тоже потребуются годы. Всему нужно пространство для превращений – свобода ума и время… Светлая тоска охватывает, когда я думаю об этих годах искренней детской невинности, простоты, попыток сделать текст, будто есть хоть слово, которое ты мог «сделать». Я – писатель. Сколько нужно мальчишеской несерьезности или наоборот циничной зрелости, чтобы такое сказать. У любого, кому больше двадцати, должна быть огромная палица за спиной, припасенная, чтобы отколошматить самого себя, избить до состояния обморочного глупца.
Однажды из книг будет добыта новая нефть, новый янтарь, из наших помутневших, ставших одним жирным пластом смыслов слоями станут извлекать ископаемые, вселяющие смыслы и чувства в технически безупречную эру Предчувствия. Я томный пророк эпохи Предчувствия, мне не ужиться в ней, там нет загадки, нет веры, там только точное чувствование всего, что есть, там бесконечное прозрение, не сиюминутное, не выстраданное, а постоянное. Мое дело – неблагодарное, юродивое: стоять среди своего времени и возвещать о будущем, где мне не оказаться. Смысла в этом нет, никто не желает знать, что случится с ним за углом; это и тщетное тщеславие чувствовать, что знаешь, не имея знания. В общем, нет и цены этому, и заслуженно, что я в лохмотьях, заслуженно, что в шести тысячах миль от дома, корень мой высушен и выброшен, заслуженно, что я переработан в язык, которого не существует, общаюсь на архаичном русском, гнию без русского настоящего. А главное, что другие, тоже превращающиеся в черный густой сок будущей Земли, давно сказали, написали, испили эту правду и ждут меня в безликом космосе смыслов, чтобы добытыми и очищенными быть через – ион лет следующими людьми, где не течет ни капли моей крови. Лучше бы потратить все сегодняшнее время не на эту жалкую страстишку, не на чванливое «я писатель» на глазах у L и его Попутчицы, а на чтение позабытых, потерянных книг. Уже сейчас книги негде хранить, слишком много смыслов, слишком густо, слишком обильно. Их «штабелируют», потом сжигают, потом развеивают легкий пепел, думают, ничего не осталось, но Земля забирает и это. В магнитном ее резонансе все раз испытанное бережно сохраняется, она не умеет забыть и не умеет возненавидеть. Заново, каждое утро, как будто не существовало тебя, ты срастаешься с телом и пишешь в дневнике:
«Новая наивность?» – уточняет L, оборачивается на Попутчицу, ищет опору для насмешки. – «Звучит кринджово», – хором объявляют, я вторю им, все только так, им видней, моего видения нет, это участь юродства – не видеть, а только напевать под нос, подвергаться насмешке за наивность, а право на нее до моего рождения стерто родителями, диктатурой, эксплуатацией, империями, глобализацией, великими Ост-Индийскими корпорациями, холокостом, волнами геноцида, ГУЛАГом.
«Дружище, – L кладет на плечо мое невесомую руку, как только он убивает такой легкой рукой? – звучит, словно замыслил ты что-то свое, как будто присвоил часть горной породы, шеф такого не любит, наши карманы просвечивают на КПП перед выходом: нельзя выносить землю в штанах, в трусах, в куртках – если каждый утащит домой по щепотке, то через год самой горы не станет, людям не хватает смыслов, это последняя гора на протяжении тысяч миль, это последняя гора в Мохаве, это последняя гора в плоскости Северной Америки: человек истребил сперва животных, затем птиц, затем пресмыкающихся, деревья, взялся за рельефы и сравнял в порыве божественного прозрения; все уравнял, превратил континенты в грандиозные равнины: такой замышлена эта идеальная земля, недвижимо-плоской. Кто ты такой, чтобы учить нас замыслам и будущему?»
Когда Дамиан проснулся, стал выздоравливать, стал возвращаться в мою жизнь, стал снова темным попутчиком, придающим веса моей душе, то я предположил: может, так называемые ангелы-хранители – это мы сами из будущего, останавливающиеся у критического момента прошлого, чтоб понаблюдать за ним? Может, нет третьей сущности: только «я сейчас» и «я, оборачивающийся на это через толщь времени, через океан мгновений»? И чем острее, ярче момент, тем гуще присутствие ангела, потому что ты из будущего будешь возвращаться к нему все чаще. Просто кто, кроме тебя самого, с искренней заботой станет кружить вокруг и сберегать от греха, от увечья?.. Говорят, все вне наших тел обитает чуть ли не в совершенной гармонии. Говорят, мы чуть ли не последний, самый низший мир. Говорят, ниже нас еще есть пара-тройка двухмерных миров, но они работают уже скорее как поддерживающие структуры, нужные для чего-то вроде «отталкивания», чего-то вроде пружинящей силы. Говорят, впрочем, что и через них можно провалиться ниже. Куда ниже двухмерности?
Философия удается мне лучше всего. Я говорю L: «Я пишу fiction, я все выдумываю». – «Он вор», – вторит Попутчица, я сам разделся перед нею, я сам вошел в нее, добровольно, с любовью, без любви нельзя войти. L приподнимает бровь над буравящим меня черным соколиным глазом. Я не соображу: это глаза гения, или безумца, или демона, или идиота?.. «Выдуманные истории», – поясняю, как для идиота, но ни он, ни Попутчица себя идиотами не ощущают. Слова даны нам, говорят, для молитвы. Говорят, для философии и облачения Бога в смысл даны нам слова, а мы употребляем их от невежества для small talks, для small books, для small nukes и так далее. Но зодчий, когда лепил слова, тем и был прекрасен, что предусмотрел все мыслимые возможности и ни одну из них не поставил на первое место, ни одну из них не возвеличил. Он не знал, чем все это закончится, и знал, что это закончится всем. У него нет весов, а тебе вечно нужны весы, глупец, гном-копатель, чтоб взвешивать добытую породу, будто она имеет массу.
«Напишешь про эту поездку?» – спрашивает Попутчица. Если историю не записать, она сделается увядающей памятью. Ничего другого. Вот она, посеревшая, затемненная, дальняя Попутчица, я едва припоминаю ее. Мы на какой-то «плазе» (мерзкое слово), прощаемся навек, я говорю, что люблю ее, что узнал, что она все-таки настоящий друг, что она пролила слезу обо мне, когда узнала, что я в беде, а это тяжелее, чем вся ненависть, желчь и обида, которые были между нами целые годы. На плазе размыкаются наши объятия, Америка – это край плаз. Без гадкой плазы ты не видел Америку. Если ты приехал в Нью-Йорк, и весь отпуск бродил по Манхеттену или даунтауну Бруклина, и не отъехал по трассе от города, и не увидел плазу – ты не можешь говорить, что представляешь Америку. В плазе скучилась мещанская пошлая жизнь среднего американца. В плазе ты спускаешься с неба и возвращаешься в жир повседневности, и тело ужасно неудобно для тебя; но ты не больше чем тело, когда закупаешься продуктами, шмотками, бытовой техникой, побрякушками, книжками, лотерейными билетиками в плазе.
Мы едим какую-то истекающую жиром гадость, жир забирается нам под ногти, на нас глядят исключительно одобрительно. Парень в неплохой форме (я готовлюсь к тесту на патрульного, все-таки полицейские на земле получают в четыре раза больше, чем заполняющие таблички, как я), у девчонки отменные бедра, да и в целом задница ничего. А еще мы белые, а еще мы кушаем (мерзкое слово) на плазе (мерзкое слово). У нас обоих отходняк. «Ну, я даю тебе слово, что не попытаюсь представить, что у тебя в голове, напишу только свои мысли, а тебя скрою, назову „Попутчицей“», – выбрасываю в мусор истекающую жиром булку, вытираю руки, губы.
Серое, все серое и как будто показанное еще и через линзу солнцезащитных очков. Серо-затемненное. И этого живого человека я не попытаюсь сделать живым. Честно скажу: я понятия не имею, что и как привело ее к L. Нет, есть история об этом, он скажет мне, когда через пару лет на пирсе Санта-Моники мы будем идти через толпу, пожирающую жирные дисконтные котлетки, о том, что написал бота для тиндера и что бот отлавливал тестовыми десятью репликами женщин среди куриц (так мерзко и скажет, от этого я чуть не подавлюсь котлетой), но поскольку отсюда мне видно и известно, что все, сказанное L, – сказки для простаков, – я думаю, что и бот – брехня, что он обычный мужчинка, как я, только убийца, что в соцсети он со всеми честно, напористо, назойливо переписывался. А как еще? Таково наше, мужчинок, бремя в двадцать первом веке.
Тем более я не видел у него ни одного бота, ни одного автоматизированного процесса. Он все делал руками и голосом. Кажется, он очень тащился от возможности голосом обратиться, приказать что-то роботу. Мы-то знаем теперь (так говорят), что голосом надо в основном пользоваться для молитв, но L мастерски управляет роботами. В Предчувствии человек чаще обращается к машине, чем к другому человеку, потому что, живя в новом царстве, – ведаешь, что у другого в сердце, и нет нужды употреблять слова для лжи и искажений. Добыл ее из соцсети, она прошла некий тест и показала себя не пустой. «Он взвесил их и нашел слишком легкими…»
«Как тебе идея о самом искреннем американском романе о превращении в американца?» – спросил ее. Это единственное, что я могу довольно подробно, с деталями и без ухода в философию или молитву, сочинить. «А для „структуры“, которой иначе так не хватает, у меня есть твоя история с L. Подари мне ее?..» Безусловно, она возмутится: гном, вообще-то, стоял на самой обочине, нет у гнома права и инструмента копошиться в их истории, но… еще была же моя окропившая их кровь, разве недостаточно?.. и Дамиан, полностью восстановившийся, сильный, как никогда, подначивает и поддерживает меня. Он знает меня лучше кого бы то ни было и никогда не отречется от меня.
«Ну, заобщались, стали созваниваться», – говорит L опасливо, с паузами, словно подбирает нужный проводок посреди минного поля. Он пытается нащупать, что мне известно, а что нет. А я шерстью чую, что он убийца… Его слова и выражение личика, квадратного, увенчанного рыжими бровями, отточенно верные. Был бы я детективом, то признал бы, что тут не к чему придраться, что с парня надо слезть, – но в глубине души я знаю, что он знает, что я знаю, что он лжет. Дамиан, это наш парень.
«А потом она приехала к тебе», – подсказываю я. «Нет, это она к тебе приехала», – очень редко в его речи появляются человеческие интонации: например, насмешка, укор, подначка – как сейчас. Обычно он разговаривает как ошпаренный робот, как будто боится быть таким же человеком, как я, с недостатками и пошлой глупостью. Мне, конечно, тоже передается это отточенное стремление выглядеть не тем, кто ты есть – как будто совершенством, – но я и так унижен своим бубнящим внутренним унизителем. Если ты хочешь казаться не тем, каков ты есть, если ты мечтаешь быть персонажем литературного произведения rather than парнем, который знакомится и влюбляется в девчонку, а у нее оказываются месячные, а у нее оказывается молочница, а у тебя оказывается маленький член, а у нее оказывается бывший муж, а у тебя оказывается аллергия на ее духи из хвойного Мэйна, и так далее, и тому подобное, и все это мелочно, пошло и смешно, но это-то и будет вашей историей во всей ее неприглядной, не переписываемой в историю на бумаге красоте, – то ты глубоко, подлинно болен.
Я еще понял, что все сказанное нами вслух исчезает. Это другое свойство памяти: там все немые, и все общаются на уровне эха. Вроде бы там двигают губами и передают, как тени во снах, свои мысли, и ты вроде бы знаешь, что было сказано, но доподлинно обозначить это буквами уже невозможно. Поэтому в моем Музее не будет диалогов, и даже смотрителям, если честно, надо запретить говорить что-либо, кроме заранее записанных монологов. Поэтому я запоминаю самое острое, когда осторожно спрашиваю: «Ну ты же понимаешь, что она прилетела-то к тебе? Что-то, может, и не сложилось, и ей понадобилось взять меня в попутчики, но она летела к тебе. Бро, она летела к тебе. Ты что, бро, совсем не врубаешься в женщин?!
You fuckin’ not realizing that she’s been living with the idea of you?!. Getting this fucking visa thing and then buying these ridiculously expensive tickets, which were like… Idk, like thousand bucks or something and she was taking this fucking short as fuck vacation to just fly over the continents and fucking insane ocean to just spend miserable three days here in Cali. But she couldn’t know what it was like here, so the only true reason must have been you, you!» – Выкрикивая ему это в самодовольную песью, соколиную рожу, я чувствую острый укол ревности. Пожалуй, впервые мы меняемся местами: странно, это он должен был ревновать ее ко мне, а ревную я. Столько усилий, столько чертовой унизительной ненависти к самой себе и любви к нему, к роботу – Попутчица не заслужила этого. Кроме самодовольной, спрятанной в неподвижном взгляде усмешечки, он никак не реагирует, но я кажусь себе вставшим на его место в Фениксе, и наоборот, что это он привез ее ко мне. Но он насмешлив, будто мы говорим не о живом человеке – не о живой чертовой Вселенной, впихнутой в маленькое совершенное тело, – а о другом таком же роботе, запрятавшем всю свою искренность в чертовы формы абзацев и букв. «Как-то в голову не приходило», – пускает беспечное дымное колечко, пожимает плечами. Убийца в своем праве.
Выходит, в моей Вселенной только я бы умолял женщину приехать ко мне, совершить чудо, побыть со мной, вынуть меня из болота смерти, из эмиграции, из неродной уродливой страны, из неродной, прожженной дьяволовым огнем реальности, стать ведьмочкой для меня, утешить огонь в нас… Он сокол, он пес в хорошем смысле слова «пес» – он бог псов, машина, он Цифра, по крайней мере, молится цифре. У той все okay. У нее нет колебаний, или двух возможных мнений, или парадоксов. Цифра – это цифра: если исключен ноль, значит, единица; если исключена единица – значит, ноль; если исключить не выходит – нужно больше данных, но не бывает квантовой все-возможности. Красота цифры (опасная – потому что с этого начнутся с нею парадоксы) в том, что ее можно разложить на десятые, сотые, тысячные, миллиардные. Но, как бы то ни было, в цифре живешь на освещенной, доказанной стороне бытия.
В конечном счете, как и всему вне себя, я начинаю завидовать L, и зависть скручивает меня в желчный ядовитый ком. Всех нас, пожалуй, в той или иной мере, Америка приманила завистью. А чем еще?.. Невозможно представить полноценного, полной грудью вдыхающего и в достаточной мере выдыхающего, который бы сорвался и помчался, полетел, поплыл через полмира, разорвав пуповину, чтобы стать эмигрантом или тем более американцем. «Американец» – мы и не знаем, что это. Любитель сигарет camel, бейсбола, бранчей, йоги, жареных крылышек, бесконечных прерий, ситкомов? Он вообще не вид. Он – это я, а быть мной, я тебе скажу, такого врагу не пожелаешь, даже рептилоиду… Конечно, в конце пути ты попадаешь в край несказанной красоты. Этот континент божественен, божественная сила и красота. Недаром тут полмиллиарда человек и все возносят ему молитвы. Уж что-что, а Землю любить мы даже отсюда еще не разучились (в массе своей). Например, среднеамериканская равнинная пустошь. Например, Небраска. Мне говорили, что через нее ехать хороших восемь часов.
Я уезжаю в Небраску, чтобы смыть с себя L, Попутчицу, зависть, найти новую точку сборки. Мне звонит Дамиан, но рассказать ему нечего. Раз я в Небраске, значит, если начать ехать, например, зимним утром с восточной стороны, из Омахи, то до Пайн Блифс, на западе, доедешь как раз к сумеркам, и всю дорогу тебя сопроводит лишь одна бескрайняя выстеленная гладь скудной белой и бурой земли. И сказать об этом нечего, слова делаются плоскими, выстилают пейзаж. «Чем не Россия, – спросит другой, – ну, кроме дороги, возможно?..» Дело в зависти.
Здесь, в пустоте ровной серой бесконечной пологой пустынной оставленной Небраски, я складываю уравнение про L, как будто по возвращении я положу расследование на стол и доложусь саблезубым начальникам, что главный маньяк Калифорнии – вычислен, и взвешен, и найден легким – нами с Дамианом. Наш парень. Но увы… Может, и был он затем, чтобы испытать нас, но Предчувствие жило в нас с самого начала. Во мне так точно. Мы слишком крепко должны были полюбить друг дружку, чтобы не расстаться, а когда целых шесть человек вдруг влюбляются, когда между ними вспыхивает смерч вдохновения, то они решают: мы никому не расскажем об этом, и нашей темной страстной любви будет довольно, чтобы менять мир, – и когда действительно поменяли его… – то к этому времени не осталось уже самой молекулы. Она расцепилась и стала шестью отдельными (впрочем, насчет лично себя я так до конца и не уверен. Эти «мы» теплой приветливой тоской еще живут во мне) новыми историями. Увы. Саблезубым начальникам лишь остается покрутить пальцем у виска.
Я помню нас… Скудная почва Небраски дает хороший корм памяти, тут не выжить без памяти. Тут впасть в беспамятство легче легкого, ядовитое однообразие повсюду, только по догорающему на западе закату узнать, куда держишь путь и почему: потому что начал с востока, начал с начала, начал с первого удачного превращения женщины в Ведьму, начал с неблагодарного проклятия, и катишься теперь полный сил в ночь, в небытие, крутишь без помощи цифр жизнь, как кубик Рубика: может, цель ее в полном насыщении собою всей пустоты долины, а может, в том, чтобы сгинуть в долине, не удостоившись насыпи с медным крестом – катишься, в общем… мышечная память: как давить на педаль, как подправлять руль, как пить из бутылки, выведет, даст бог, тебя из пределов полной Небраски в знание, что есть сила вне тебя, глубинное знание, смысл, о котором и не мечтал еще утром.


