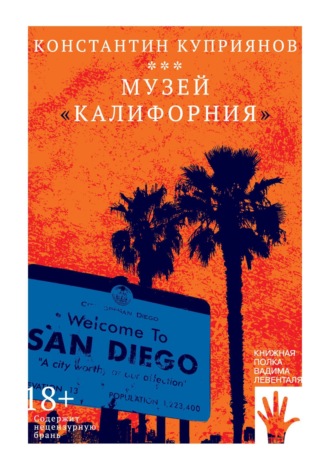
Полная версия
Музей «Калифорния»

Константин Александрович Куприянов
Музей «Калифорния»
© К. Куприянов, 2023
© ИД «Городец», 2023
© П. Лосев, оформление, 2023
Жене посвящается.
April is the cruelest month.
T. S. Eliot. The Waste LandЕхал домой восемь часов: сперва по неосвещенным локальным трассам, потом – по межрегиональному хайвею номер восемь, – и все восемь часов, по безымянным и по восьмому, проклинал ее. А на самом деле – себя. Ворвался в дом порядком уставший, но все же еще разогретый яростью, напугал кота, ужаснулся отражению в зеркале, и, чтобы я смягчился, отражение рассмеялось. Дом смягчил меня, ненадолго осталась только боль, но я еще посыпал ведьму проклятиями. Просто чтобы были. А что еще остается мужчине, разочарованному в себе и в том, что он, вопреки возрасту, вопреки силе, вопреки всему, вовсе и не мужчина?..
Не могу им стать, а проклинаю чертову ведьму. Кот перепугался и спрятался. Большой жирный кот живет у меня в доме. Благодаря ему я хотя бы узнал, что умею любить. Без него чередой серых лет я думал, что даже этого не дано, и знаешь, как-то чертовски сложно быть человеком, если не уверен до конца, любить-то ты можешь или нет. Но если есть кот, и есть кусочек сердца, для него отделенный – где он сохранится и останется, – значит, могу?.. И так все гармонично выходило. Как будто я папирус разматывал, а там – судьба. На нем иероглифы, и мне понравилось, что все знаки сходятся, и вот, значит, после довольно длительного испытания и серии трансфигураций, я полюбил.
Пускай ведьму, она и не спорила. Она так мне и сказала, что ей нравится, что я ее так называю. «Витальное, – сказала, – слово». И она была чистая ведьма. Из моря людей, из водной бездны, в котором три миллиарда лиц и имен, от мала до велика, – все море женщин было перед моим выбором – я вытянул именно ведьму! Именно эту. Удивительно, как быстро обезьянка переключает передачи: вот еще вчера мне рисовалось все как благословение судьбы, а сегодня как проклятье! Но кого я на самом деле проклинаю? Уснув на полмига, я очнулся уже в другой ночи: той, где не было никакой девушки, никакого романа, никакого грязного замысла сочинить череду анекдотов и баек, дорожных записок, а была с самого начала чистая мысль избавиться от страсти, обезображенного чувства и вернуться домой.
Проснулся. Лежа закурил. И чего, спрашивается, ждешь? Что я пойду рассказывать от начала до конца? Да к черту. Все идет к черту. И истории эти прямые туда же идут. Буду рассказывать, как рассказывается. Я свободный человек. Я, мать твою, американец. Лежу в ботинках на диване, и плевать. Кот у меня с особенностью: он, как и я, любит быть рядышком, но держать дистанцию. Не любит прикосновений, но любит, чтобы к нему тянули руки. Мой кот точь-в‐точь как я. Бесит.
Курю в потолок, хотя нельзя. Мне, американцу, свободному человеку, в чертовой Америке ничего нельзя. Это просто сводит с ума. Трахнуть ведьму нельзя, это злит больше всего, но это ладно, это хотя бы закон. А вот какого рожна я по человеческим понятиям не могу курить в этой дорогущей квартире?! И вот я курю.
Мне, вообще-то, категорически запрещено это делать. Работа. Могут проверить. Marijuana – this is a big no! Написано где-то. Я в чертовом департаменте работаю. Все завидуют, да я сам себе завидую, когда думаю об этом. Detective Damian Cooper. У меня есть значок и ксива. Я пишу рапорты и езжу на места преступлений. Все как в кино, только это жизнь. Странно и дико, будто это сон после утомительной дороги сквозь горы и пустыни домой, к берегу, откуда не уходит наваждение лета, не уходит солнце и романтическая, годящаяся только для настоящих любовников ночь.
Например, четыре дня назад: развороченный дом, расстрелянный барыга. Нет головы, нет ног, нет следов, но всем в целом понятно, что случилось: показательная казнь, совершенная барыгой покрупнее. Я даже знаю его имя. Мне надо связывать цепочку событий, чтобы… Но перед кем и зачем я распинаюсь об этом сейчас?.. И окурок опасно вываливается изо рта, катится, тухнет на грязном полу, становится кошачьей игрушкой. При яркой лампе почему-то так уютно спится, фантазируется. Мне снится, что я стал им, американцем Дамианом Купером, уважаемым членом общества, со всеми его грехами и тяготами, со всеми клише, известными миру: безвкусным кофе, посредственным пивом, огромной машиной, зуботычиной в зубах, кредитом, который выплатить невозможно, вечной дырой в кармане, оттуда вытекают все деньги и смыслы. Это я?.. Короче, сказал ей, что я – детектив. Произвело прямо-таки Эффект. С большой буквы. Ну а как еще? Рос я без отца, типичная история российских девяностых, и, значит, ухаживать учился по фильмам про ментов. Фильмами про ментов зато можно было обмазаться, будто все отцы всех брошенных детей пошли в менты и в бандиты, причем стали такими, какими их изображают в кино. Папа, мне ее очень-очень захотелось… Мужчина же я, в конце концов, понимаешь? Я просто с ума сошел на эти семьдесят три дня. Да, я посчитал. Наш роман продлился семьдесят три дня… но я хотел одного, я хотел ей вставить, и это меня вело целых семьдесят три дня. Я захотел ее, конечно, моментально, но до мозгов это «доплыло» (снизу, поди) на день четвертый. Я лег, взглянул на ее фото и сгорел.
Тоже курил, кстати, в тот момент, когда внутри меня взорвалось оно, и тоже в ботинках, на диване, а напротив, на пятне ковра, невозмутимый лежал этот же самый огромный мой кошалот и смотрел без эмоций, не понимая, но соединенный накрепко чувством, которое тянет меж зверьми и людьми нить. «Кот! Я полюбил! Спасибо тебе!» А кому еще было признаваться?.. Это обрушилось водопадом, этого было так много, что и вздох стал глубже, и плечи расправились, и взгляд прояснился, и поволока серости, которой я жил многие годы, растворилась на несколько минут. Объяснять не стал, не для него, как говорится, перо мое росло. Короче, захотел я ее к четвертому дню и следующие шестьдесят девять дней, то бишь до сегодня, были разговоры, ожидания, планы и предвкушения. Конечно, человек я до крайности самоуничтоженный, и поэтому на пути желания вставали то и дело комплексы, сомнения, отрицания, но! Но. Именно для ведьмы я действительно худо-бедно погасил в себе голос сомневающегося ботаника и заговорил себя: папирус обещает исцеление. В папирусе сказано: тут кончается предел твоего мучения, и одиночества, и метания, и твоей неспособности стать наконец-таки мужчиной – и ты становишься тем, кем был задуман. Мужчиной, детективом, ведьмаком. Ведь кто, в конце концов, отвечает за рождение ведьм?..
Но теперь все разрушено в угоду книжной драме. Теперь все позади, и этой истории ничего не остается, как только медленно гаснуть в архиве неслучившегося счастья. Понемногу силы меня оставляют. Скидываю ботинки и залезаю под одеяло. Для этого просыпаюсь и с трудом узнаю реальность, в которую втиснулся после тяжелой дороги. Теперь охота порыдать. Та ли это ночь, в которой я умею плакать? Котик тут подкрадывается аккуратно… Получилось заснуть.
Утром встал угрюмый, но, по крайней мере, явно более вменяемый. Больше так гнать нельзя. Надо позволять выдох. Надо себя пожалеть. Был недавно случай, и он почти свел нас в гроб: я разбился на машине, это было ужасно. Если опять себя так же чморить, как тогда, то… нет, ну пайка у меня крепкая, развалиться на самом деле не должен, даром что ли столько всего уже было. Но, пожалуй, из совсем невозможного это превращается во что-то, чего уже исключать прямо-таки нельзя.
Я загнался. Отражение смотрит на меня полувопросительно. Как будто замечает раздвоение: темная новая материя и простачок, Ванька из умирающей страны третьего мира, светлолицый образ на фоне тьмы. Я хочу превратиться. Я хочу стать тьмой. Я хочу начать говорить на чужом языке, радоваться чужим радостям. Я хочу исчезнуть, не потрудившись осознать себя, и это главный дар поцелуя ведьмы. Если этой книге предстоит стать чередой путевых заметок, я на шаг приближусь к тому, чтобы превратиться в темного двойника. Дом остался далеко: и пространство, и время унесли вперед. Да, мерцает свеча на подоконнике, где любящие прежнего меня беспечно ждут, но усложнения достигли такого порядка, что просто так туда не заявишься. И как проверить, меня ли манит эта свеча?..
В какой-то мере та реальность (употреблю это слово по назначению), в которой я проживаю, одержима наблюдением, саморефлексией и самозаписью. Она постоянно фиксирует себя: отнюдь не только письменно. Ее фиксируют сотни тысяч видеокамер слежения, случайные кадры, которые люди делают на свои телефоны и мыльницы, газетные и сетевые заметки – множество инструментов. Без постоянного пересказа самому себе историй мир, пожалуй, спятил бы за день. Но запись с камеры видеонаблюдения хотя бы не пытается быть произведением пресловутого искусства, не пытается преломлять, она честно отображает меня. И зеркало кривится от этой мысли.
В общем, на следующее утро я встал и прошелся. Мне бесконечно тяжело даются подъемы. Какая-нибудь пошлая, тупая служба (работа) вынуждает еще худо-бедно следить за часами, но даже если я приговорен к трудовой повинности, то обычно ставлю будильник таким образом, чтобы иметь полчаса на осмысление того, как же поднять себя и выковыряться из постели. В праздные же дни, которыми разбавлено мое существование между сезонами пахоты, я обычно лежу-сижу подолгу. Ведь предвкушение кофе всегда вкуснее и питательнее самого напитка, а может быть, просто у меня уже много лет (так, что и не рассчитать, когда началась) тянется, с перерывами на смутную ремиссию, депрессия. Она затянулась, как мучительное удушье, и не желает отпускать. Но жить в большом городе и не страдать зависимостью или депрессией может только святой, а святые не сочиняют книг, не волочатся за ведьмами. Они лишь вмещают в себя темных подселенцев, без надежды пережить их, и милостью Божьей всегда переживают.
Утром, следующим после отъезда из края ведьмы, я, по крайней мере, знал причину горя. Важно знать. Ведь большей частью все случающееся со мной так или иначе необъяснимо. Так что давно начал придерживаться подхода, что причины – если они сооружены логикой – условны, походят на костыли, подставленные под требующее объяснения. Но поскольку необъяснимое за каждым поворотом, каждым новым утром, то тренируешь мышцу объяснения, и она к зрелым годам делается крепкой и натруженной, у ее работы возникает определенный почерк, проявляются определенные трюки и уловки. Но все равно, мне приятно держать некие виртуальные вожжи и задним умом подводить под события подходящие аргументы, все это более или менее фикции и заплатки. Что-то всегда будет случаться, мерцать и превращаться. Я могу лишь изредка сдержать превращение: я доказываю это каждое утро, между шестью и семью утра, когда ничего не делаю, упрямо, с наслаждением, когда выключаю голову полностью, а зрачки в потолок, но сон уж сошел, а руки применяю то для рукоблудства, то для расчесывания кота, но все это без толики смысла или цели. (Кончить – это цель? Надеюсь, есть где-то защищенная PhD работа по этой теме.)
Но вот проходит очередной такой час, и я должен соучаствовать в превращениях. Вновь я смотрю на смеющееся зеркало. Практика древняя: смеяться во что бы то ни стало, даже если из глаз текут слезы. Десять первых минут на ногах я натужно смеюсь в зеркало в одиночестве, и спазм оставляет грудь, получается выдох. Но мысль о том, что я самообманом внушил себе, будто влюбился в нее, не становится менее горькой. Есть только один рецепт: ждать, пока странички перевернутся дальше и понемногу все отдалится настолько, что прошлое сомкнется; все в конечном счете удаляется так, что перестает иметь вес и притяжение. Самые яркие звезды непрерывно удаляются от нас – говорят, так будет до тех пор, пока Вселенная не кончит своего необъяснимого расширения, – весьма вероятно, и самые яркие опыты: любовь или ужас, подчинены схожему закону, хоть космос их не разведан и не описан вовсе.
О памяти мы должны раздумывать постоянно, потому что на памяти строится вся кажущаяся стройность поступков настоящего. Мысль только кажется серьезным инструментом, но, как заводная обезьянка, она не перестает прыгать и трепыхаться, угомонить ее очень сложно, даже когда единственная твоя мысль – о том, как бы угомонить мысль.
Мне бы очень хотелось, чтобы ведьмочка стерлась из моих прошлых мыслей, и понемногу она становится просто именем и несколькими картинками, и тогда я выясняю, что остаюсь наедине с мошкарой из собственных комплексов и страстей. Как вообще говорить о нелепом сердечном разочаровании? Можно ли писать историю этого персонажа (тебе он представлен как некий «я», и, наверное, ты более-менее соотнес его с «белым гетеросексуальным мужчиной средних лет» – то бишь наиболее распространенным, заученным, занудным и подлежащим обструкции архетипом для большого города «на Западе» в пятне эпохи между краями второго-третьего тысячелетий) с какой-то другой интонацией, кроме как ироничной?.. Наверное, и невозможно, unless он только не осмысляет нечто такое (например, устройство Вселенной, или, того лучше, свою мужскую сущность, или – вариант уже кажется беспроигрышным – свою же или ближнего своего смерть) – тогда тональность может быть и драматическая.
Но одного нельзя точно – нельзя нейтрально написать. Нельзя и притвориться, живя в двадцать первом веке, что ты всерьез рассчитываешь рассказать какую-либо другую историю, кроме как историю пресловутого «я». Нет, я бы, может, и сумел бы вытянуть сюжетец, где ангел-хранитель – некое Око – витает над неспелыми персонажами: например, в данном случае над ведьмаком и ведьмой. Можно взять целую дюжину разных опций: например, разогнать историю сразу с того мига, как он и она встретились, и этот краткий, пылающий роман разложить на черточки слов, взглядов, движений; или можно начать вообще издалека и рассказать, пользуясь гибкостью письменного времени, как они шли друг дружке навстречу, превращаясь в пару: она сидит на кожаном диване, он, совсем близко, мечтающий коснуться ее коленки, на приземистом бархатном кресле, и слушает, и слушает… Она читала ему невероятным, грудным голосом, из невероятной, спелой груди, свою невероятную книгу, и он гадал одновременно: это действительно хорошо написано, или это просто его желание заставляет видеть во всем, что она произносит и делает, выражение совершенного искусства?..
И так далее и тому подобное… Превратить в текст можно любую историю, у неофита от подобного захватывает дух и закладывает уши.
Ну ладно, а допустим, послезавтра мода подует в другую сторону, и появится (воскреснет) спрос на комедию. Собственно, никуда он и не девался. Любой так называемый автор скажет, что вещь мечтает написать остроумную. Хорошо, а можно ли вообще автору разоблачаться до признания того, что он автор? Или что он персонаж?.. После смехотерапии перед зеркалом я упал обратно на диван, я безнадежно опоздал на службу, я не мог поднять себя, я в черном разочаровании, мне просто больно; боль сверлит меня, добывает из меня тьму, прокачивает ее по газопроводу для нужд ада, огромный кошалот прыгает вокруг, потом падает на диван, крутится, бьет хвостом и кричит, кричит, ноет, совсем как человек, с непереводимой, но и крайне очевидной интонацией: «Дай, дай, дай! Мяу-мяу-мя-я‐у…» А в моей голове взрываются целые солнечные системы смыслов, меня скручивают судороги, где отражаются целые пласты потерявших имя цивилизаций. Кормить кота и переживать грандиозную драму, завязывать галстук и мечтать проснуться в другом языке, в другом диалоге.
Все постоянно будут талдычить, что ты должен показывать. А с другой стороны, ты бесконечно будешь ожидать, что покажут тебе. Не зря эволюция прокачивала для нас все эти годы именно зрение. О, глаза – в них весь смысл. Мы едим и рассуждаем глазами. Короче, у меня целая история о том, как я бы мог или, вернее, как я буду показывать этот момент: она читает свой отрывок, он пожирает ее глазами и ушами… Что он чувствует?.. И почему это сегодня уже я пишу о нем как о «нем», а не как о себе?.. Может, все-таки поднять ставки? И тогда надо сказать о глубоком в нем, например, что этот здоровяк тридцати одного года от роду никогда до этого не бывал с женщиной и это его самая черная, на самую большую глубину зарытая тайна, и тайну он привез ей?.. И поэтому он так яростно, громко проклинал ее?.. Тогда возникнут чувство липкого стыда за него и ненависть к нему: зачем на такое смотреть?.. Фу! Однако чему это учит, как сцепить его с опытом внешнего, беспрерывно трахающегося мира? Я нервно вскакиваю, иду наконец-то на кухню, коша-лот бежит следом. Насыпал ему еды и нацедил себе завтрака, кофе. Никаких больше предвкушений, ощупываний предстоящих превращений, только сырая подлинность, только настоящий кофе, неизменно оказывающийся pretty much мерзким. И надо как-то заговорить это неловкое признание, ради которого затевается весь этот сыр-бор. И узнать по голосу, каким человеком это тело проснулось новым утром.
Счастливые не пишут, не снимают, не рисуют (and probably, не существуют). Они есть, конечно, но мне с ними не столкнуться, и это к лучшему, мы на разных этажах Музея, на их этаж нужен специальный пропуск, да я, признаться, и не претендую. Нужна справка от врача, что не болеешь несчастьем, нужно пройти через бюрократическую волокиту.
«А тут, на моем этаже, правила устанавливаю я», – внахлест, я действительно сказал ей так… Я начал целовать ее запястья, но она отдернула руку. Я сжал ее крепко, навалился, у меня стало две пары лишних рук, я зачерпнул, сколько получилось, ее тела в четыре жадные ладони. Она оттолкнула меня, и вдруг желание обрушилось вниз по телу, пропало через пятки, провалилось через древний пол, через труху перекрытий и вечную подвальную пыль, через почву и подземные реки, спящие плиты, в горнило пылающего сердца.
Как же унизительно. И главное, ощутил, как в тысячный раз предало меня именно собственное сердце – то самое Предчувствие, о котором понаписано море книг. Конечно, все дело в нем. Вечно оно ошибается, и я возненавидел нас обоих, и эту звонкую, странную, кринджовую тишину. Просто бесконечно неловкий и постыдный момент. Тебя отвергают, а ты все еще не осознаешь этого, вытираешь с губ невидимую пену и жаждешь испариться, но так бывает только в сказках.
Но, конечно, я ничего не говорил. Сейчас я оборачиваюсь, в прошлом только мягкая покладистая пустота, и страшный пустой выдох ночи, когда она уезжает, такая же растерянная, как и я, увозит свое волшебство, чтобы предложить его чуть колышущимся на ветру идолам пустыни.
Кто вообще насооружал все эти циклопические города посреди пустынь?.. Она говорит, что в этом Фениксе все помешаны на hiking (походы). Let’s go hiking, I went for a hike, I been hiking my whole life и так далее. Охотно верю. Пустыня удивительна, познавать ее только ногами и текстом. О пустыне должно быть максимальное количество книг и стихов. Должно быть отдано пустыне, пустыня – это вход в память, врата на следующий этаж Музея, это бездна земли, сокровенная мякоть матери-Земли, вышедшая на самую поверхность. Здесь не место городам, такому количеству людей – я согласен быть тем, кем пожертвуют сегодня, тем более меня сожрал стыд и я должен испариться каким-то образом. Стыдно быть недомужчиной, стыдно быть тем, кого отвергли, стыдно – стыдно – стыдно, не стыдно только лежать час, не приходя в сознание, после сна и опаздывать на работу.
Ну а для начала: для меня грандиозной драмой было вообще полюбить замужнюю… Двойное проникновение, так сказать. Трахнуть ее и, конечно, трахнуть его. Он целиком и полностью останется жителем моего воображения. По очень косвенным признакам я догадываюсь, что он педераст или кто-то в этом роде, что брак их фиктивен, что любовь их, если и была, высохла, как истлевший кактус, еще за много столетий до меня; она давала мне призрачные знаки. Я очень люблю призрачность. В принципе, я тут проволакиваюсь через эту жизнь во многом только для того, чтобы доложить о призрачности и доказать ее на собственном примере. Этот эфемерный (эфирный) мир должен быть рассказан, самому себе преподнесен как загадка и стихотворение. Чем чаще я о нем говорю, тем больше он существует. Каждый раз, когда я приступаю к письму, я зажигаю свечи. Маленький набор благовоний, кстати, подарила мне ведьмочка. А я семьдесят три дня выращивал свою страсть и семьдесят три дня ждал, вернется ли она. Не вернулась, и через эти семьдесят три я сотру все переписки, все письма и никогда не возникнет вновь повода надеяться, осмеливаться, зажигать свечи.
За завтраком утро превратилось в погожий ясный день, в Сан-Диего вечное лето. Сан-Диего – город-побратим Феникса, и гадкая мизогиния изливается в ее горло, когда я, отверженный и невинный, мщу последним, на что способен в старом опустевшем кинотеатре, в Фениксе, где нет ночью ни души, где все души убыли в пустыню возносить дары, воскуривать благовония: «Красивые женщины не пишут красивых глубоких книг. Расчерченный по двухмерной табличке сценарий с фокусом на пару актуальных тем – их удел.
Ладно, одну книгу из слоя старой боли, когда не было красоты, они могут поднять, но их красота не для того, чтоб писать книги день ото дня до кровавых мозолей на пальцах, и женщина не ставит себе задачу, ради которой не применима внешняя красота, нет, детка, если уж книга, то добываешь красоту из глубины, тебе должно быть в глубине очень-очень больно, и бур надо опустить в самые недоступные залежи, а ты, детка, слишком залеченная, ты так долго лечила себя, что все, чем могла быть твоя писанина, давно законопачено, и если ты начнешь вытаскивать породу, это будет полая, бестолковая порода, твое чтиво невыносимо, ты сделаешься через пару лет американкой, западной чикой, умело симулирующей при помощи маски эмоции, которых ждут при словах-сигналах, язык сам обманет тебя, ты не захочешь созерцать, твое тело прикует все внимание, зачем тебе наблюдать за пустыней? Я смотрел и слушал тебя, и меня обуревала похоть, вот я сжал тебя всеми четырьмя лапами, преврати меня в мужчину, но прошу, молю, не заставляй меня делать вид, что ты писатель, что я тут для того, чтобы восхвалять писателя, нет, я тут, чтобы заполучить ведьму, я охотник за волшебством, я охотник на тех, кто знает о превращениях и зазорах в смыслах, где происходит магия, я тут для того, чтобы наконец очнуться. Пробуди меня!»
Кот сыт, а я только сделал глоток кофе, и тело вскочило и бросилось в машину. Я распутываю одно из самых мрачных преступлений близящейся осени. В Сан-Диего действительно больше трупов, чем полагается солнечной песчаной пяточке. Я стою над пространством, отгороженным желтой лентой, где лежала она, черная уродливая туша, с желтой лентой в остатках волос, наполовину обглоданная рыбами, навсегда превращенная в черный безлицый мазут моего (под)сознания. Очередная жертва бездомицы, капитализма, царства Силы, времени, правил Возмездия, неуловимого убийцы, которого я поймаю и уйду навсегда. Черный момент в центре вечного летнего дня всплывает на одном и том же месте, куда мы с напарничком Дамианом возвращаемся, когда он соблаговолит наконец-то отцепиться от моих рук и дать продышаться, вспомнить, что вокруг не только смерть, но и лето, и время, и разлита прозаичная, одинаково пошлая от Анадыря до нашей прибрежной полупустыни бессмыслица природы. Прежде, чем я поеду нервно и со срывами описывать линию горизонта, разоблачать, как из нее могло выплыть нечто столь безобразное и необъяснимое, труп, обмазанный мазутом памяти, двадцатилетняя невинная нимфа, писавшая стихи из боли и красоты, не знавшая мужчины, кроме своего убийцы, и дальние полоски волн поеду описывать, я, в оправдание времени, которое застал и выбрал, обращаюсь к своей ведьме. Запоздалый спазм ужаса:
«Слушай, мне бесконечно стыдно. Знаю, ты наверняка не ответишь. Мне так стыдно. Я все испортил, и желаю тебе только одного: чтобы ты встретила подходящих, любящих людей. Так безусловно ты достойна любви… Прости, что смею писать это. Но, понимаешь, ты права – я действительно, оказывается, отравлен дикой страстью к тебе. Как в той книжке, помнишь, мы открыли случайную страницу, сфотографировали, запомнили. Там говорилось: „dependency on the flesh…“ Так и есть. Несмотря на всю эту веру и охоту на духов, плоть ведет меня, я служу материи, я служу тому, чтобы завтра были еда и питье, чтобы завтра не замерзнуть на куске бетона, без привилегий лежать-медитировать меж шестью и семью утра, обращая безмолвие к богу-обезьяне Хануману. Да, я до крайности зациклен на себе, а из чего еще выращивать любовь? Все прочее, что не из меня выращено и полюблено, – обман, но возглас правдив: мне хотелось бы знать, что ты будешь счастлива! Пусть тебе встретятся лучшие люди».
И я застываю на день, на два, жду: вот появляются две чуть видимые галочки (люди будущего, со следующего этажа Музея моей ночи, не поймут, о чем речь, тут встанет вставка-примечание от редактора, и тем я соединюсь с будущим незнанием и пустым знанием). Значит, прочитала. Тянется время, и понимаю, что дальнейший вихрь зависит от фатума, от древнего договора, быть может… Если мы условились с нею играть дольше, чем семьдесят три, она ответит, и что бы она ни ответила – значит, вихрю кружиться, и у меня будет какая-никакая призрачная девочка где-то в далеком Фениксе, в воспламеняющемся, возрождающемся городе, в центре обильной пустыни, сонной и растерянной перед толпами жителей-пилигримов. «Никогда такого не было, и вот они откуда-то все пришли, прилетели, приплыли. Они что, сумасшедшие? – вздыхает американская пустыня, особенно в свои сорок июньских – июльских – августовских – сентябрьских – октябрьских градусов. – Что они, с ума меня свести хотят, какая тут жизнь, какое тут рождение детей?! Тут и воды-то нет кроме как на глубине, чем они питаются? Неужто эти экраны, непрестанно мерцающие, поят их?..»


