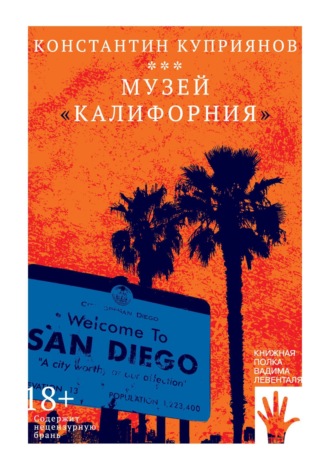
Полная версия
Музей «Калифорния»
Но договор оказался на семьдесят три: она никогда не напишет. Я всюду ее заблокировал. Просто чтобы не смотреть на эту ослепительную, воспламеняющую красоту. Пройдет сколько-нибудь дней или лет, все превратится во что-нибудь иное, красота в моих глазах остынет. Уже любая красота. Я буду знать. Я научусь молиться и всматриваться глубже. Dependency on the flesh… минует постольку, поскольку я уже в старших классах человеческой школы. Какая там зависимость? Все легче и легче. Да и тело мое делается все прозрачнее.
Дамиан подходит, когда я отправляю жалкое винящееся сообщение. Так хочется тут же отменить. Уж не знаю, что унизительнее, но я держусь. «Wha’da’ya think?» – кивает на черное опухшее пятно с лентой в том, что раньше было волосами. Рядом ковыряется криминалист, и я киваю ему: «Она утонула, это определенно, – подает голос он. – Она была еще жива, когда тонула, но кто-то отрезал ей кисти и ступни». Чертово дело почти распутано. Я забираю ленту из нераспутанных волос, их некому будет расплести, оплакать, отхожу метров на тридцать и обильно блюю желчью. Я не ел, оказывается, с прошлой ночи. Только Дамиан замечает и кривится, презирает, курит напоказ, мол, я не слабак, я видел горы трупов, увижу еще столько же.
Мне противна пища, я ограничиваю себя в еде до такой степени, что тело пропиталось отвращением. Это странный повод наказывать себя, брат, подумаешь, зависимость от плоти, собственный член не возненавидишь. Тело противно, и скорее бы оно остыло и разложилось. Поздний январь, и послезавтра у меня собеседование в другой департамент машины. Ради этого я пересеку полштата и вырвусь на волю, они, видите ли, не знают будущего. Не знают, что через два месяца из дома будет немодно, неэтично высовывать нос. Да, надвигается черный силуэт из прошлого. Смерть вида. Такая же, как все в новом веке, почти игрушечная, ситком, не отделавшийся от закадрового смеха. Нам разыгрывать черную драму под натужный искусственный хохот.
Я еду в участок, заполняю отчет: женщина, семнадцати – двадцати лет, около пятидесяти пяти килограмм, грудь третьего размера, очень опрятная, очень округлая, чертова идеальная грудь, чертовы идеальные соски, розовенькие, выпуклые, сладкие, податливые… На меня все глядят, вытаращив глаза. Ладно-ладно, удаляю неправду. «Умерла от асфиксии, в воде. Ее завели далеко в океан, отрезали кисти и ступни и сбросили, обмотанную кабелем, на потеху птицам, дельфинам, рыбам. Чудовищная смерть…» – рутинно уточняю под скучающие взгляды. Следующей реинкарнации, если б память не была идеально исчезающим лучом света, всегда рассеивающимся пропорционально прошедшему времени, снилась бы эта смерть. Вытаскиваю свою колоду таро и раскладываю на столе: восьмерка мечей – худшая, самая неприветливая карта колоды, перевернутая семерка мечей – плохой предвестник, пятерка мечей, тоже перевернутая – дурное поражение. Почему одни мечи? И все по убывающей?
«Смерть, смерть», – они трезвонят. Преимущество текста над жизнью: он-то хотя бы умеет играть со временем; переносит в те минуты, где что-то случается: где любят, ждут, убивают. Даже скудный рапорт детектива забирает тебя куда-то, а жизнь обычная, – хоть растягивай, как гармошку, хоть сдавливай, как тюбик, – всю придется намотать на себя. Правда, ведьмочка приоткрыла мне секрет о времени.
Помню, как попал в ее хижину, как она показала, под черной клятвой тайны, коренья и грибы своей пустыни, кактусы, умеющие поделиться пульсом своего внутреннего движения, сердцебиением своего цветения, которые надлежит как следует чистить, отваривать, настаивать на алтаре и пить после заката. «Кактус любит ночь», – прошептала она. В отражении появилась сгорбленная, не утратившая сексапильности старуха, вросла в историю вместо цветущей волшебной девушки: «Я пришла в местную nursery, просто на углу Market и Columbia, просто в ближайшую по пути, – нашептала, – и там был он, нарядный, из сердца пустыни San Pedro». Пожимаю плечами. Ну был и был. Ее черные глаза усмехаются, потом она по-восточному опускает взгляд, возвращается в отражение молодая обнаженная чаровница, я пропадаю в ее теле, я поглощен ею, я бессилен перед этой красотой и нежностью, в это невозможно не влюбиться. Ее запах заманивает меня в западню. Она первый человек из Туркмении, которого я встречаю, ее кожа белая и спелая, как цветок хлопка, ее красота заслужена тяжкой работой многих женщин, попавших в нижнюю советскую пустыню каторгой и эвакуацией. По ее рассказу – он посвящен трипу под MDMA – начинаю догадываться, что вещества пропитали и подчинили ее химию. Манит за собой, но я стою перед сокровенной комнатой в хижине. Не просто так я стал инспектором и ночи напролет машиной, как ножом, с напарником-полячком пронзаю калифорнийскую бездомицу, ищу развращенного убийцу. Dependency on the flesh будет побеждена.
Я прошу ее дать мне все, что было в пакетике. Она водит перед лицом тонким сладким пальчиком. Как же охота ее поцеловать, а потом оттрахать, превратив нас обоих в обезьян. «Первый раз, – предупреждает-учит, – не стоит кушать все». «Кушать» – терпеть не могу это слово. Я кушаю половину дозы и начинаю, как дурачок, ждать. Я в удобной пижаме, рядом на кровати она. Мы навсегда перестаем быть любовниками: отныне она Ведьма, с большой буквы «В», а я заманенный в ее хижину, в старый кинотеатр в опустевшем на ночь деловом квартале, страж. Мне не вырваться отсюда прежним, не превратиться в любовника снова. В глазах играют чертята. Я чувствую, что она оплела мою глотку невидимой ниточкой и вытягивает все, что я могу содержать. Никогда больше не вернется моя власть над ней, да и не было ее – в постели все обман, а между душами происходит настоящая игра во власть, а секс – просто дальний отголосок, еще и пародийный, в нем в шутку путаются роли женщины и мужчины, просто чтоб меньше отдавать физических сил. Я никогда не был властен над ней.
«Первый трип, – мурлычет. – Я тебе так завидую. Это как первый раз читать книгу, как первый раз…» Снова опускает глаза, и кровь у меня в паху вскипает.
Я точно знаю, что она имеет в виду именно это. Плоть.
Так что там о Сан-Педро? О, с каким восторгом и тайной любовью она прошептала про него. Пройдет семь лет, я буду лежать на камне, лицом к Млечному Пути, страсть станет мечтать о выходе из меня, вспоминать нашу с Ведьмой последнюю ночь стану, кинотеатр, полностью разобранный на составляющие части: остались стены лишь да пятно от экрана. На экране возникает фильм о нас: корешки, грибочки и другие тайны, которые она принесла мне, невинному, глупому стражнику, ее потаенная лачуга в бетонной глубине молодого города в глубине несказанной пустыни, не исследованной, как дно океана, и на полпроцента. Вдали огонь лагеря, вдали вой койотов, фестиваль хаус-музыки, вблизи, подле камня, в третьей четверти ночи, уснут друзья, истощенные волнами мескалинового счастья, и камера останавливается на моем лице: вспоминаю ее, кактус выкладывает карты на стол: восьмерку, семерку (перевернутую) и пятерку (тоже перевернутую). Объясняет, что по-иному и быть не могло. Мы обязательно должны были повстречаться!
Она должна была подарить мне это. Я запоздало прощаю себе все и вижу, третьей частью путешествия: кактус объясняет логичность и неизбежность каждого узора жизни, каждой разложенной в ней карты и сцены. Время останавливается, и поэтому нет ни воя, ни музыки, и только камень, и только бесконечная любовь в теле, и только космос, ширящийся минута за минутой, по необъяснимому закону распространяющийся, забирающий память, все мои грехи; само время ширится и расплетает меня, слишком усложнившегося. Экран перестает быть экраном, кинотеатр прекращает быть греховным любовным гнездышком, она нанимает в полночной безлюдице такси, надевает на тонкий палец тонкое кольцо белого золота, едет спать под бок к другому.
Она снует по квартире, а время и впрямь замедляется. Начинаются медленные ласковые вибрации воздуха. Вот так, оказывается, мерцает не только каждая клетка во мне самом, но и в воздухе. Все мерцает, переливается и пульсирует любовью, кроме одного места. В самом центре моей головы бесконечная обременительная тяжесть. Такая же, как в паху, только неразрешимая. Она превращается в руку, дергающую меня, и я не чувствую ничего, кроме высвобождения. Я кончаю ей в ладошку так быстро, что даже не успеваю сообразить. Я вижу ее грудь всего мгновение. Она произносит своим грудным низким голосом: «Ты можешь попросить сегодня все что угодно. Это твоя ночь», – и тут же похищает мой трип. Я просыпаюсь, больше не high. Я съел слишком мало, лезу, еще не до конца исцеленный от любовной слепоты, за добавкой, пока она уходит в туалет отмыться, засыпаю в рот, но все тщетно. Еще семь месяцев пройдут, неспешно раскроются, и я пойму, что никакой мужчинка-любовник не смог бы усмирить ту меру любви, которую старый кактус-пройдоха дарит просто так, походя, просто потому что он бессилен, его срезали, освежевали, сварили и выпили.
Вот и весь трип. Я давно свободен и пуст, никакая структура не держит. В четыре раза короче, чем дорога за рулем из Сан-Диего в Феникс и обратно. Потоки беженцев валят вместе со мной из Калифорнии в Аризону: «Дешево, дешево, дешево», – как одержимые, повторяют, а я еду за любовницей, еду украсть ее у мужа. Внутри меня скребется черный червь, подкидывающий возможные причины, почему не страшно похитить ее: «Экономит на жилье, экономит на налогах, при чем тут семья, при чем тут любовь? Укради и насыться». Пока я еду, пляшет танец моя волшебная подруга меж сухих стволов и улыбающихся кактусов, экзальтированное цветение ей вторит, ритм прыгает по позвонкам, рождая счастье в основании позвоночника, простреливая из сердца подлинной любовью, там нет места второму танцующему. Но все же я еду, хоть червь во мне гневлив.
Плоть стала легкой, словно она извлекла то единственное семя, которое меня превращало во что-то по-настоящему твердое и тяжелое. Помню, как единственной сухой материей остался центр в голове, третий глаз-камень. Я жалко простонал и упал на подушки. Она что, сделала это со мной во второй раз? Мы снова сидим и читаем друг другу рассказы. Есть какая-то томительная интимность в этом, какая-то детская незащищенность. Вдруг стройность памяти подводит, я теряю ее конструкцию, попадаю в ловушку сомнений. Я маленький, я – ребенок; вижу себя возвратившимся в детскую комнату, на тридцать лет обратно, со мной рядом призрак моей никогда не пришедшей сестренки, и мне совершенно не хочется притрагиваться, вот так, грубо, по-мужски, к своей сестренке. Нет, мы будем играть и слушать Моцарта.
Она говорит: «Нет ничего лучше, чем первый раз под грибами слушать Моцарта. Я тебе даже завидую». All the way she’s telling me she was jealous…
Конечно, на почве зависти и теперешнее убийство, разложенное передо мной в краю безнадеги, где нет маяка, куда можно устремиться, на почве зависти. Я, честно говоря, не верю в другие мотивы. Напротив меня очередной психопат, буравим его глазами. Напарник-полячок Дамиан стоит, сложив руки на груди, а я сижу. Мои плечи опущены, спина сгорблена. Я совершенно не похож на уверенного в себе, способного к броску, способного к убийству. Скорее психопат напротив полон сил и энергии. Нас поменяли местами? Кто кого допрашивает?.. Из комнаты выйдет только один. Дамиан худой и стройный, спина его пряма, а вот голова чуть опущена, как будто тонко вытянутая шея не может удержать ее, в синих глазах полыхает гнев, желание.
Нет, я веду скрупулезный дневник с тех пор, как мы познакомились. Приступами Дамиан вполз в мою жизнь, и я понял, что забываю о периодах, когда его не было, поэтому надо записать. «День первый. Я еще не знаю, что это день первый, я пишу на пятый день, по памяти. Сигнал, что приступу быть, появился с пятницы на субботу…», ну и так далее. Это мой тридцать седьмой очный допрос и семьдесят третий день в дневнике. Через пару месяцев мы станем, как конченые дебилы, сидеть в намордниках и пытаться по глазам угадать мимику подозреваемого. Все преступники станут уходить от наказания, потому что без чтения лица я не вижу ничего. Но пока угроза только бренчит холодными бубенцами, тянется чертов январь-янтарь – месяц, когда расколола и сожгла мое сердце Ведьма, когда отдрочила без любви и признала его не заслуживающим дальнейшего интереса – и я читаю по лицу безошибочно: убийца.
Только вот он не наш убийца. Слева усаживается другой псих. Белый как лист бумаги, в белой тесно застегнутой до верхней пуговки рубашке (кто в чертовой Южной Калифорнии носит такие, кроме них?) белый адвокат. Говорит: давайте закругляться, лето не заканчивается, у меня серф-борд готов, скоро закат – дни нынче особенно коротки, – я хочу ловить волну, а не вот это все. Лето не покинет этой комнаты, пока мы не решим, мистер. Я бы мог быть таким, как он, почему нет? Я всеми силами гребу ради этого, разве что мелирование не сделал. Он сдавленно бормочет, будто у него трубка или член в трахее: «Мой клиент находился на верфи, на своей ночной смене, есть шесть свидетелей, способных это подтвердить, это не ваш парень, ребята, вы, как всегда, объебались». Я киваю, но продолжаю буравить чернодушного взглядом. Он точно убивал, я вижу в его глазах. Он убивал меня. Не в этой, конечно, жизни, но однажды – он уже убивал меня, и сегодня могу убить его я.
Вообще-то, странно – делюсь с Дамианом во время перекура, – что полиция отказалась от своего права насиловать и пытать. Теперь я гораздо лучше понимаю коллег в России, которые пользуются слониками, бутылками и старым добрым групповым изнасилованием, чтобы уйти домой, закрыв дело. Пожалуй, если бы я знал, что силой могу прекратить любое дело, – я бы заканчивал. По умолчанию, это самое естественное, что делаешь, когда получаешь в распоряжение силу и безнаказанность. Столько дерьма тянется изо дня в день, перетекает в следующие недели, создает потом несмываемую память, стыд, невроз. Я чувствую этот тяжелый, уволакивающий ритм, который забирает меня на самое дно. Чем ниже, тем лучше – теперь уже перестало казаться по-другому. И кажется, что если бы хоть одну проблему решить силой, плетью, выстрелом – например, проблему сраного маньяка, в белоснежной одежде, с белоснежными зубами, с белоснежной кожей, с черной как сажа душой…
Все бы наладилось. Мы с Дамианчиком бродим по верфи. Где все чертовы люди? Стоят неподвижно гигантские хитиновые панцири кораблей, отсоединенные от внутренностей. Помню, как меня спросили тогда, тоже был январь: «Ты что, был attorney в России?» – «Ну да». – «И ты хочешь пойти работать на верфь? Хочешь заниматься сваркой?.. Знаешь, это очень тяжелая работа, физическая работа». Короче, они ни черта не понимают в американской мечте, и меня не наняли варить швы на панцирях кораблей. Иронично: теперь я иду, сверкаю своей белой рожей, по той же верфи и ищу хоть кого-то, кто тут работает. Огромная масса металла безо всякого присмотра. Где-то очень высоко, в пятидесяти метрах над нами, летят искры. Дамианчик бьет по кнопке, и мы дымим в открытом лифте. Два детектива против правил… Невероятно медленный подъем, бутон города из дымки всплывает перед нами. Мы дымим прямо в сторону таблички «курение запрещено», Америка, але, мы не отсюда. Польша и Россия против всех. О нас снимают кино – осветительные приборы светят нам в рожи, и по ним течет черный пот усталости и злобы. Ждем, чтобы кто-то нам сделал замечание, но лифт поднимается так долго, что к тому времени, как мы оказываемся на верхнем ярусе, сигареты потухли. Давно стемнело, пока мы поднимались, давно наступил рассвет…
Я выбросил в пропасть, Дамианчик педантично спрятал свою в отдельный портсигар – саркофаг для бычков, у него паранойя на тему генетических материалов. Он думает, что сумеет укрыться за вуалью невозможности, немыслимости существования призраков меж обычных людей. Искр давно нет, когда мы достигаем вершины. «Где все?! – ору. – Где все?!»
«Это был мой тридцать седьмой допрос», – зачем-то я сообщил это Дамиану. Я заканчиваю на этом. Мы не особо дружны. Если честно, мы вообще не друзья. Это главное, что я ненавижу в своей работе – надо постоянно взаимодействовать на горизонтальном уровне. Меня ведь спрашивали на одном из тестов: «Вы team player?» И я изобразил свет в глазах, искры, белые зубы: «Ya-ya, of course! Oh, I love teams. You know I used to be a boy scout. I used to be a head of patrol, I used to be seduced by my scout master… – Жуткая, леденящая дух пауза, глотаю воздух под одобрительные, ничего не вмещающие кивки… – ‘Kay, ‘kay, I’ma just kidding», – и мы хохочем как не в себя. Ой, как же это смешно. Нам в полиции разрешают смеяться над всеми этими левацкими замашками, над уравниловкой, над сезонным заигрыванием политиков с геями, черными и бомжами. И даже над доносами от постаревших наркоманов разрешают в кулачок похихикать: кто, кого, где, когда, как, при каких условиях, за что и почему лапал, или трахал, или убивал – ведь в полиции-то точно знают, что все лапают, трахаются, изменяют, пристают, засовывают, демонстрируют, будто одержимые, и копы лучше других знают, что если бы не возможность спустить гнев и ужас на кого-то живого, то половина города вообще не вылезла бы утром из постели. Другая половина и так давно не вылезает: нюхает, или курит, или пуляет в вену – наши постоянные клиенты, – а те, у кого хотя бы есть либидо… Ну, без них этот мир вообще бы не крутился.
Но я out of this shit. Я ухожу из большого желания. Ведьма мне все показала. Всю никчемность моих попыток. Нет, я натурально проклят, и мой путь – это дорога в тени. Сумерки приближаются. Дамианчик, это был наш последний допрос, я хочу счистить с себя, соскоблить все это дерьмо, вернуться домой чистым, чтобы лето закончилось хочу и чтобы грянул мороз, я хочу замерзнуть и простудиться на чертовом, бесславном русском морозе. Мы опросили пять свидетелей: все укурки, как на подбор, точь-в‐точь как сам подозреваемый, и все, потупив красные глаза, сказали, что он работал на верфи. Шестого не нашли, а написали, что нашли. Дамиан сказал, что не поедет сюда. Чтобы укурок не расслаблялся, мы не поехали в участок, пусть посидит еще ночь в клетке.
«Он точно убийца», – бормочу, но Дамиан курит безразлично. Плевать ему, у него какая-то своя чернота. Правда, он уже на правильном направлении, он возвращается к свету. Послезавтра мне ехать на север. «Чем займешься, пока будешь один?» – я спросил его, как будто мы муж и муж. «I’ll do something else», – пробормотал Дамиан.
Меня что-то заводило даже в наших отношениях: как будто он постоянно норовил меня отталкивать.
Мне казалось, что в этом есть подозрительная, будоражащая драма, как если бы он хотел меня, но полностью исключил такую возможность и томился, как томятся миллиарды возможностей в этой сыгранной нами реальности… Зачем все это? Бедного Дамианчика завтра без меня подстрелят. Непонятно, за что, но будто бывает смерть «за что-то». Пока я буду гулять, чуть ли не под ручку, с психом и раскручивать совершенно другую историю, – бедный мой белоснежный Дамиан будет плакать, и стонать, и истекать кровью.
К счастью, в этом море крови он не пропадет. В другой реальности, с другим напарником, любовником, другим днем и часом, – умер бы, а в нашей, серой и тоскливой, живущей под надзором дьявола, – он только очень долго плачет и истекает. Утро я провел у его койки. Нашего психа отловлю, это дело чести теперь, это дело – живое, как книга. «Книгой» называют теперь все что угодно, книга – это перешеек в песочных часах, место перетекания космоса в космос, в хорошей книге не может не найтись демона-черта.
Он проник в меня еще так давно, когда я понятия не имел, сколько в нем темного притяжения. Люблю эту аналогию: узнавание объектов по косвенным воздействиям на них иных сил; мы выясняем, что есть где-то планета, или звезда, или прогалина в космосе, за счет воздействующих на видимую материю искажающих сил. Но и с людьми так же: на целое созвездие моих друзей оказал влияние тайный образ, тайный дух, и я должен был скинуть и забыть этот дух, но я окроплен кровью.
Ну а пока я мчался: как и в большинстве своих дней – через долины невежества, в слепом самодовольстве. Видимость была отличной, солнечный день, но я ничего не видел, и очень бедная земля была справа-слева, отполированная и выглаженная ветром. Я тщетно ехал на восток, в пустоту человеческую. Есть там люди, но не мои, я оставил своих людей, чтобы проникнуть в край чуждых. Целую жизнь следует готовиться к подобному странствию, а я собрал рюкзак за половину утра. Исчезли подлинные путешественники, нет уже пустот и неведомых краев. Мы знаем все, что будет. Нет тайны: все написано, мы знаем, что нас ждет, можно по гугл-улицам прогуляться и посмотреть то же самое, что завтра увидишь своими глазами. Выходить из комнаты нет даже символического резона. Смысл есть только в сидении дома и молитве.
«Ты вор?» – переспросила Попутчица. У нее интересное было свойство – у той, которая наведет меня на нашего парня, – умение спросить заинтересованно, но не интересоваться сердцем. Мы мчались, это так странно, в пустынной октябрьской пустоши, я гнал свою лошадку ради нее. Между Калифорнией и Аризоной лежит земля Сонора, формально она принадлежит обоим штатам, но это обморочная пустота, не нужная никому, через нее вьются под ослепительным небом раскаленные гусеницы товарных поездов и пара скудных дорог, по одной из которых летит и моя машинка, сминая обочины в однообразные рисунки на полях страниц. Было это в то утро, когда я проснулся мужчиной и не стало причин спрашивать «кто я?», «где я?». Таких дней за всю жизнь было сколько? – Полдюжины? Меньше?..
«Я вор, – эхом повторил, – неоригинальный вор идей и смыслов. Ничего своего я не создаю, но у меня есть талант заигрывать в словах чужие концепции и мечты. Я ворую знаки и намеки, которые подают мне, и вместо того, чтобы напитать ими жизнь, все сношу в книжку, всем удобряю ее, будто она почва, из которой я прорасту, когда, потеряв из виду путь, пропаду сам, как тело, затеряюсь в земле и воздухе. Я краду у снов зыбкость и бессмысленность и выстраиваю, словно была в ней задуманность, смысл и замысел, ворую у святых книг твердость намерения и надежду на высшее, будто в книге будет высший наблюдатель, делающий ее Книгой, маяком в превращениях тумана. Я вор». – «И книгу ты своровал?» – уточняла она с пустошным безразличием. Кажется, не ответил. Мне нравилось, как бродит рука по ее ноге, от жары почти испаренной, и ни о чем не мог говорить испаренным языком, как только лишь о том, чтоб еще раз стать поздней ночью, в забытой деревушке, мужчиной с ней. Пузырилось во мне чувство, узоры тлели над нашей крышей. Я как бы превратился в невинного: просто работник на отдыхе, встретил новую подругу, влюбился и везет ее теперь в даль пустыни.
Язык выдает, кем я уехал. Он умрет, как и остальное зло, преградой перед которым я встану. Всю свою жизнь я должен был только вставать преградой перед злом, ничего другого. Попутчица заводит меня в край, где я увижу одну из самых больших мер зла. Другие встретят гораздо больше, а я встречу свою меру. Там я еще не помышляю о роли детектива: думаю, что так и отсижусь в дальнем тылу, в аналитичке, где есть рабочие часы и внятные выходные, где ничего не надо делать, кроме пяти однотипных таблиц, где мне платят, кажется, только за то, что я существую – гнилая мечта левака. Я гнилой левак там, на кредитной тачке, Попутчица безжалостно вводит меня в расправивший огненные крылья город. Мы с Ведьмой понятия не имеем, что ходим теперь по параллельным улицам, фотографируем параллельные бетонные каньоны со стеклянными глазами, что даунтаун Феникса вымирает вокруг кинотеатра, назначенного уже стать нам общим, – мы не догадываемся друг о друге. Времени еще нужно много песка пропустить, чтоб сплести все в наш узор, пока мне выдана Попутчица, и Феникс на следующий день впустит нас. Но люди в самом деле всегда идут к своим убийцам сами. Незримые путы связывают убитого с убийцей. Так я смог примириться с неизбежностью, невозможностью того, что человек убивает человека.
«Ты вор…» – бормочет Попутчица под нос, но я вижу, что ее вообще-то мало волнует моя судьба.
Член и тот произвел больше впечатления. Весь этот водопад слов, что мы пролили при встрече, был не о том, чтобы услышать или научить, – вот, годы спустя, я не помню ни одной темы, которую мы обсуждали.
Кажется, я стою теперь там же, в той же комнате, да и час тот же: примерно в полночь она добралась до меня. Попутчица спросила: «Подвезешь, ковбой?..
Мой прицеп накрылся, мне надо в город. Я сепаратистка, мне нельзя связываться с государством», – добавила невпопад, когда я выруливал на дорогу с обочины, молча забрав ее. Затащил к себе в пещеру, в свою мужскую пустую душную дыру посреди земли, а перед этим, под надувшейся луной, мы стояли, по щиколотку в океане, я остановил в Энсинитасе, тридцать минут от моей дыры в земле, городок богатых мамочек и серфящих наследников. Понятия не имел, какая фаза Луны и какая фаза прилива приготовлена, просто свернул показать ей, она не из этих мест, она из долинных, пусть же увидит большую воду и блин спутницы Луны, ломающийся, как печенье, по гребешкам почти остановившейся хмари. А был deep tide – это когда вода отошла далеко, и можно прошагать от берега чуть не на сто метров, по влажному песку, переполненному зарождающейся жизнью: крабиками, черепашками, лангустами, а может, и дальше могли пройти, и все будет ярким и светлым: огромный лунный прожектор в памяти разрастается до таких величин, будто полнеба им накрыто, и Попутчица дрожит от благоговения – в долинах не бывает таких тихих океанских вод, и таких лун, и таких попутчиков.


