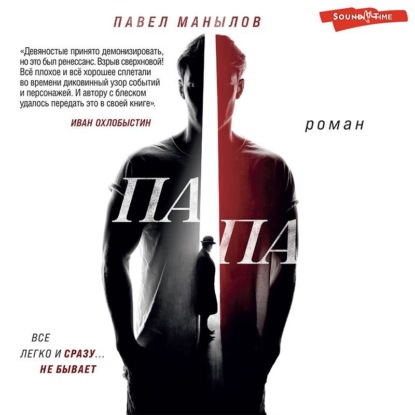Полная версия
Дневной поезд, или Все ангелы были людьми
– Ну что ж, извольте, коллега… Я называю вас коллегой, поскольку вы когда-то учились на моем факультете.
– Да, да, весьма польщен. – Боб разгладил на коленях джинсы, словно лесть способствовала скорейшему исчезновению складок.
– Не знаю, доставит ли вам удовольствие мое сообщение, но у меня два с половиной дня назад умер сын…
– Ах, как ужасно! Мы вам сочувствуем, – отозвалась Жанна, отворачиваясь от стенки, чтобы Герман Прохорович не преминул заметить, что она из сочувствия к нему прослезилась. – Примите глубочайшие соболезнования, или как там говорится…
– Соболезнования. Ты не ошиблась, – успокоил жену Боб.
– А вы примите мою благодарность. Я говорю об этом так спокойно, потому что по буддийским понятиям смерть – явление обыденное и даже банальное. В ней нет ничего ужасного, пугающего и тем более сакрального. Просто прервался поток иллюзий – вот и все.
– Вот и все дела, – Боб по-своему выразил ту же идею.
– А Страшный суд? – спросил Добролюбов, у которого упали с носа очки, и без них он стал выглядеть беззащитным и близоруким – и впрямь как перед Страшным судом. – И вообще предстать перед Богом, Творцом вселенной – и это иллюзия, по-вашему?..
– Для буддиста вселенная не сотворена, а существует вечно, периодически разрушаясь и восстанавливаясь. Впрочем, не будем заплывать так далеко…
– …За буйки, – подхватил Боб высказанную мысль и придал ей конкретные, осязаемые формы, сделавшие ее совершенно непонятной.
– За какие еще буйки? – спросил Морошкин, на всякий случай оглядываясь, словно буйки могли находиться здесь, рядом, маскируясь под другие предметы.
– Это он образно… – Жанна по праву жены истолковала намерения мужа.
– Вы сказали: не будем заплывать далеко. А я добавил: за буйки.
– Ах, эти буйки! Простите, давно не был на взморье. Как-то, знаете, не до этого…
– А ваш сын был буддистом? – спросил Добролюбов и с извиняющейся улыбкой взглянул на Жанну, которая одновременно с ним задала этот вопрос:
– А ваш сын?..
– Да, – произнес Морошкин так, будто в этом коротком слове содержалось все, что нельзя было вместить в более пространный ответ.
– …Буддистом? – переспросила Жанна, словно она чего-то не расслышала и в его ответе скрывалось нечто, нуждавшееся в уточнении.
– Да, да! – раздраженно повторил Морошкин. – И поэтому он завещал кремировать его, а прах развеять над Финским заливом.
На минуту все смолкли.
– …Над Финским заливом? – пролепетала Жанна, опасаясь, что Добролюбов вновь задаст этот вопрос одновременно с ней и этим лишит его всякого смысла. – Развеять?
– Я же, кажется, сказал. – Герман Прохорович готов был усомниться в том, что он говорил, раз этого упорно не понимают.
– Вот это да! И я бы так хотела. – призналась Жанна.
Боб гадливо поморщился.
– Значит, мы едем рядом с пеплом от сожженного трупа. Хорошенькое дело. Не очень-то это вдохновляет. Вы должны были бы взять отдельное купе, в конце концов.
– Заткнись, – прошипела жена, хотя сама подумала о том же.
– Почему это я должен заткнуться? Я что – не имею права сказать?
– Молодой человек, вообще-то, прав. Я поэтому и избегал этой темы. Но вы сами настояли. – Морошкин смущенно улыбнулся в знак того, что теперь ему приходится извиняться. – К тому же я пытался избежать попутчиков. Но спрос на билеты столь велик, что на одного купе мне не продали, а СВ в этом поезде нет. Да и все равно проводник нашел бы предлог, чтобы кого-нибудь подсадить. Знаете, как у нас… Билет билетом, но все зависит от высочайшего соизволения. – Он поднял глаза к потолку, но, чтобы высочайшее соизволение не было истолковано превратно, добавил для ясности: – Я имею в виду, конечно же, проводника.
Умора
Жанна решила, что сейчас будет нелишним всех немного рассмешить, чтобы загладить неловкость, возникшую из-за бестактной и глупой болтовни мужа, вынудившей Морошкина перед ним оправдываться, а заодно продемонстрировать свою осведомленность в том, как живут великие. Неловкость усилилась оттого, что в купе зашла Капитолина с полотенцем на шее. Перед этим она заняла очередь в туалет, и Жанна поспешила воспользоваться этим к своей выгоде:
– Чур я за тобой. Скажешь, что я занимала.
– Что занимала? – Капитолина была слегка огорошена этим внезапным натиском.
Жанна снисходительно улыбнулась ее непонятливости.
– Ну не сто рублей же, дорогая. Всего лишь очередь, очередь. – После этого Жанна вернулась к своему намерению всех смешить и развлекать на примере жизни великих, о которых она кое-что слыхала: – Мне рассказывали, что академик Капица, гений в области химии или физики, – я точно не помню, но ему, однако, не очень повезло с сыном… Так вот этот Капица имел привычку называть сына «мой дурачок». Ха-ха-ха! Мой дурачок – сыночка-то… Представляете! Умора! Между прочим, я так же иногда называю своего мужа. – Жанна рассчитывала на успех своей остроты, но никто не засмеялся, кроме Боба, который некстати хохотнул и тотчас смолк, словно получил увесистый подзатыльник.
– Действительно, смешно… – сказал при этом Морошкин, догадываясь, что Жанна старалась (трепыхалась) ради него.
Но она держала в запасе еще кое-что.
– Граждане, у меня родилась идея, – сказала Жанна слегка обиженно из-за отсутствия должного внимания к ней. – Сегодня каждый постарается подсуетиться со своими делами. Кто-то навестит больного духовника, кто-то займется подаренной квартирой, кто-то посетит Эрмитаж, – она толкнула плечом Капитолину, – а кто-то совершит печальную церемонию над Финским заливом. Завтра же мы встретимся в том же составе…
– Зачем? – спросила Капитолина, мечтавшая поскорее избавиться от Жанны и ее мужа.
– Хороший вопрос, – сказала Жанна, словно у нее не было другого способа всем внушить, что на самом деле вопрос очень плох. – Кто на него ответит?
– Можно я? – вызвался Боб (для него это был шанс оправдаться за допущенную бестактность).
– Слушаем тебя, Бобэоби.
– Мы должны встретиться, чтобы поддержать товарища после совершения печальной церемонии.
– Умница. Можешь, если захочешь. Да, мы должны поддержать Германа Прохоровича. В этом цель нашей завтрашней встречи.
– Я, собственно, не очень нуждаюсь, – сказал Морошкин, на самом деле благодарный Жанне.
– Извините, конечно, но это вам сейчас так кажется. Завтра же одному… с этой вашей капсулой… в незнакомом городе…
– Я Ленинград очень хорошо знаю, – возразил Морошкин, скорее не возражая, а соглашаясь с Жанной. – Я здесь вырос, учился и вообще…
– И вообще вы баюкали в колыбели новорожденную революцию, – подхватила Жанна, и на этот раз ее остроту оценили – все улыбнулись, кроме Капитолины.
– Что ж, я согласен. Называйте место.
– Раз вы потомственный ленинградец, то вы сами и называйте…
– Хорошо, есть одно кафе, как раз недалеко от Эрмитажа.
Жанну слегка задело, что место выбрано к выгоде Капитолины, и она решила отыграться на времени:
– Я предлагаю завтра в два часа дня.
Все подумали и согласились.
Две цыганки
Перед самым Московским вокзалом, когда все уже стояли с вещами в коридоре, по вагону, протискиваясь между пассажирами, оттесняя женщин и детей, прижимаясь (прилепляясь) грудью к мужчинам, прошли зазывалы – две цыганки. Обе были смуглые до черноты, одна совсем старая, пропахшая табаком, с бельмом на глазу, другая помоложе и постройнее. Обе шуршали пестрыми юбками, шелестели монисто, посверкивали серьгами с поддельным жемчугом и показывали золотые коронки на передних зубах (намеренно держали приоткрытым рот).
– Погадаю на трефового короля, – пела старуха.
– Снимаю сглаз, порчу, – вторила ей та, что моложе.
– Девочки, кому аборт – недорого, – заговорщицки предлагала первая.
– Исправим карму, – обещала вторая.
– Сама, что ли, исправляешь? – спросил Морошкин, пока она переступала и перетаскивала юбки через его портфель.
– Зачем сама? Ученые люди есть. Вот адресок, барин. – Она достала из-за пазухи и протянула ему бумажку.
– Какой я тебе барин? Я – мужик, пролетарий умственного труда.
– Не пролетарий ты. Барин и есть. Вон руки белые и борода вся в серебре… Только сына потерял – хоронить едешь.
Морошкин обомлел.
– Ишь ты! Откуда про сына знаешь?
– А у тебя на лице все написано. Позолоти ручку – я тебе еще больше скажу. – Цыганка выставила лодочкой ладонь для позолоты.
– Не надо мне. Не хочу. Хоть ты сама меня озолоти, не буду.
– Боишься, барин… Не из храбрецов ты, однако.
– Ну боюсь…. Боюсь я свое будущее узнавать. Давай адрес.
– Я тебе все будущее открывать не стану. Только скажу… на ушко шепну… – Цыганка и впрямь потянулась губами к его уху. – Скажу, что сейчас ты вдовый, барыню свою схоронил, но скоро опять женишься.
– Не было у меня никакой барыни. Жена вот была…
– А она для тебя – та же барыня…
– На ком женюсь-то?
– На одной тут, помоложе тебя… Только ты ей верь. Не прогадаешь.
– Герман Прохорович, вы же интеллигентный человек. Неужели вы цыганок слушаете? – не выдержала и вмешалась Жанна, беря Морошкина под руку, как поводырь слепого, и отводя в сторону – подальше от ямы, куда он по неосторожности мог упасть.
– А ты молчи, завистница. Лучше о душе подумай. Тебе жить недолго осталось, – сказала цыганка, словно не о Жанне, а о ком-то другом, кто был где-то далеко и не мог ей на это достойно ответить.
Но насчет самой Жанны цыганка ошиблась: та ответить как раз могла.
– Недолго? Мне? Да я тебя переживу и морду тебе расцарапаю.
– Не расцарапаешь. Коготки-то спрячь. – Цыганка сняла и натянула под смуглым подбородком платок, острый как бритва.
– Девочки, не ссорьтесь, – примирительно сказала старая цыганка. – Никто из вас не умрет. Это мне, старухе, помирать пора.
– Слыхала? – Жанна хотела посильнее толкнуть свою обидчицу, но чуть не обрезалась о ее натянутый платок. – У-у, чтоб тебя!.. – Она отдернула руку.
– Я-то слыхала, но ты меня, похоже, не услышала.
– А что ты мне такого сказала, чтобы тебя слушать?
– Что сказала, повторять не буду.
– О душе, что ли?
– И о ней тоже.
– Ой-ой, держите меня! Так никакой души нет. Во всяком случае, буддизм так считает. Верно, Герман Прохорович?
– В известном смысле, пожалуй, верно, – сказал Морошкин, никогда до конца не соглашавшийся с собеседниками, даже если они повторяли его собственные слова.
– Что ж ты адресочки раздаешь, а сама об этом не тумкаешь, – насмешливо упрекнула Жанна цыганку.
– Я тумкаю, – ответила та, вновь повязывая платок. – Только говорю, как вам, дуракам, понятнее.
Между тем поезд прибывал к Московскому вокзалу.
– Московский вокзал, – объявил проводник, словно без него никто об этом не узнал бы.
Часть вторая
Глава четвертая
Кощунственных пародий не одобрял
Как всякому москвичу, приезжающему в Ленинград, Николаю Добролюбову нравилось думать, что у него есть заранее намеченная программа, о коей на досуге так приятно помечтать, что-то добавить, что-то убрать или поменять местами, хотя бы от этого ничего и не изменилось. И пусть она затем наверняка сократится, ужмется или вообще не будет выполнена, но приезжающий все же утешается мыслью, что она была, его заветная программа.
Была! И это гораздо лучше, чем вообще не иметь никакой программы и тем самым истолочь драгоценный подарок – несколько дней пребывания на берегах Невы, – как горький лекарственный порошок в ступке, чтобы затем принимать по ложечке.
Принимать и строить при этом страдальческие мины, означающие, что вместо наполненной, счастливой и беспечной жизни ему подсунули обманку в виде каких-то мелких дел, унылых забот и пустых обязательств, на кои так жалко тратить бесценное время.
Программа Николая Добролюбова включала многое – и Эрмитаж, и Русский музей, и Царское село, и Петергоф, и другие пригороды Северной Пальмиры, но он не обольщался и трезво сознавал, что все это лишь мечты. Ведь ехал он не за этим, а по весьма печальному (слава Богу, не скорбному) поводу – навестить тяжелобольного. Утешить его, отчитаться перед ним, а в чем-то и исповедаться, как бывало прежде.
Поэтому, предвидя неизбежные ужатия и сокращения программы, Николай заранее смирялся с тем, что придется оставить в ней всего лишь два наиважнейших пункта, без коих Ленинград не Ленинград. А именно: утреннее парадное дефиле по Невскому проспекту (от Московского вокзала до самого Зимнего дворца) и посещение гостиницы «Англетер», где имел несчастье повеситься тот, кто чуть позже будет назван звонким забулдыгой, подмастерьем народа-языкотворца.
Сам Николай при этом упорно не верил, что Есенин повесился.
Не верил по простоте душевной, хотя считал, что подобное неверие, напротив, свидетельствует об особой проницательности и изощренном складе ума, всегда ищущего свою версию там, где другие довольствуются общепринятой.
Вопреки общепринятым мнениям, он склонялся к мысли, что Есенина убили большевики, люто, до умопомрачения ненавидевшие все русское. Один Троцкий чего стоит, да и Яков Михайлович ему под стать – ненавистничек… А ведь Есенин – самый русский из всех поэтов и по своей русскости мог бы поспорить с самим Пушкиным.
Тот, правда, возгласил однажды: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», но возгласил как-то на французский манер, с французским прононсом (сам Николай французского не знал, но прононс чудился ему повсюду). Александр Сергеевич ведь и воспитан был на всем французском – на Парни и Вольтере, а уж «Гаврилиада» – та и вовсе пародия на все отечественное, национальное и прежде всего православие.
Николай же кощунственных пародий не одобрял.
Так что недоброе ты сотворил, Пушкин, – ужо тебе…
Есенина же – не в пример Пушкину – воспитывала русская почва и исконно русская деревня (Николай не раз совершал паломничества на Оку – в село Константиново). Вот ненавистники (а среди большевиков их было особенно много) и убили его. Заманив в «Англетер», придушили подушкой, а затем уже сунули голову в петлю.
И Николай несколько лет сидел по библиотекам (особенно любил Историчку в Старосадском переулке, рядом с Ивановой горкой). Истово, скрупулезно собирал материалы об этом – для статьи, а может, и для книги. Сам он такую книгу не осилил бы (не хватало таланта), но рассчитывал на помощь одного умного, знающего, снисходительно-насмешливого человека, который его поощрял, поддерживал, подбрасывал кое-какие идеи и – даже более того – вдохновлял.
Вдохновлял так, что временами аж щеки пылали и жар в груди разливался – впору охладить, выпив бутылку плодово-ягодного («плодово-выгодного», как его называли), самого дешевого, за рубль с копейками или даже девяносто копеек…
Незаживающие ранки
Познакомился с ним Николай еще в Питере. Жил он тогда у Смоленского бульвара, в полуподвале, или уходил на чердак, где у него был свой закуток, выделенный ему под тем предлогом, что он якобы охранял сохнущее там белье. Владельцы простыней и пододеяльников ему даже за это ни копейки не платили, поскольку за всю историю Смоленского бульвара (ручаемся лишь за советский период) не было случая, чтобы кто-нибудь на вывешенное белье польстился, и жил Николай на пенсию родителей – своих старичков, как он их называл.
Сам он устроиться никуда не мог, да и особо не пытался (не хотел обслуживать советскую власть, по собственному выражению). И, дабы не выслали за сто первый километр, каждый год правдами и неправдами раздобывал справку, что якобы сторожит церковь.
В этой церкви, где служил отец Анатолий, его духовник, и произошла судьбоносная встреча. Во время службы его тронули за плечо – попросили передать свечку к празднику (был канун Иоанна Предтечи). И передававший был так не похож на обычного прихожанина, что Николаю сразу запомнился.
Он выглядел светски, даже отчасти либерально, службой явно томился, немного позевывал, высматривал что-то на потолке – изучал, как каждый попадающий в церковь из университета старается первым делом что-нибудь непременно изучить, а уж потом выполнить положенные обряды.
Казалось, что он попал сюда по необходимости: надо было кого-то повидать, с кем-то переговорить, а заодно решил выстоять службу – не ради того, чтобы причаститься, а хотя бы по-интеллигентски приобщиться к церковной жизни.
Раз уж выпал такой случай, грех им не воспользоваться.
Они вместе с Николаем вышли из церкви; тут на ступенях и познакомились, словно передача свечей к иконе их настолько сблизила, что оставалось лишь назвать свои имена и обменяться рукопожатиями. «Владимир», – представился гость, молодой, лет сорока, коротко стриженный, гладко выбритый, с рассеянной задумчивостью натягивая перчатку, и тотчас спохватился, сорвал ее, чтобы, как подобает, пожать руку новому знакомому.
Это уже выглядело не столько по-университетски, сколько по-офицерски – в духе тех времен, когда офицеры пили шампанское, умели щелкнуть каблуками, поднести два пальца к козырьку и служили на Кавказе. Тем более что и отчество у Владимира было редкое и к тому же кавказское – Жанболатович.
Николай тогда еще удивился совпадению: отчество как у другого кавказца, отца Анатолия, внешне на него совершенно непохожего, с поповскими спутанными космами (слишком длинные пряди заправлены за уши), клиньями залысин по обе стороны лба и клочковатой бородой.
Поговорили о том о сем и разошлись бы, если бы Николай не обмолвился о своем чердаке, завешенном стираными простынями, полукруглом оконце, затканном пауком, и собственной версии смерти Есенина. Тут-то и выяснилось, что Владимир Жанболатович и впрямь из университета и тоже занимается Серебряным веком, а уж Есенин для него как отец родной (пылкое кавказское красноречие).
Пригласил Николая к себе, стал показывать редкие книги, сдувая с них пыль, а чью-то фотографию, висевшую над столом, быстро убрал и спрятал. Версию Николая о смерти Есенина не то чтобы поддержал, но признал ее любопытной, чем тот был обрадован, польщен и окрылен. Обещал пригласить на конференцию, но только непонятно – с докладом или просто посидеть любопытствующим болваном и послушать.
Но пригласить так и не успел, поскольку вскоре случился исход Николая из египетского плена, если понимать под Египтом двух сфинксов на набережной Невы и одного фараона – отца Анатолия. Отношения с фараоном у Николая стали натянутыми, как бельевая веревка на его чердаке, отягощенная мокрыми простынями.
Фараон безумствовал, ревновал, допекал, следил, грозил анафемой за непослушание. И веревка лопнула бы, если бы Николай вдруг не женился на скромной девушке Наде с туго заплетенными косами до самого пояса, длинными платьями (не слишком красивые ноги), бирюзовыми сережками (она их носила в коробочке и постоянно примеряла, не решаясь надеть) и не бежал из Ленинграда в Москву.
Он даже толком не попрощался с Владимиром Жанболатовичем, столь поспешным было бегство, и не успел вернуть ему взятые книги: их потом пришлось присылать из Москвы заказной бандеролью, а в приложенном письме каяться, извиняться и просить прощения. Владимир-Жан (двойное французское имя он предпочитал непонятному кавказскому отчеству) ответил ему снисходительным письмом, легко за все простил, лишь немного удивился, благодушно пожурил, и с этих пор завязалась их переписка.
Для Николая она стала отдушиной – при тех мутных, бурливых, как весенняя Нева, отношениях, которые сложились у него с отцом Анатолием, чьим мучеником он себя называл. Николай выкладывал Жану-Владимиру о себе все. Он откровенно исповедовался ему, не скрывая даже тех подозрений, кои вызывал у него отец Анатолий, пытавшийся вкрадчиво внушить Николаю, что флорентийский еретик Данте слишком жестоко обошелся с грешниками седьмого круга ада, заставив их скитаться в бесплодной пустыне и страдать под огненным дождем.
Николая смутили и озадачили эти слова, как смущает недосказанность или, наоборот, слишком настойчиво выпячиваемая мысль. У себя на чердаке он раскрыл Данте и прочитал, что огненный дождь попаляет насильников и содомитов. Вот оно что! Стало ясно, кого выгораживает отец Анатолий. И не только выгораживает, но втихую списывает на подзащитных и кое-какие собственные грехи.
Во всяком случае, Николаю многое припомнилось, чему он раньше не находил объяснения, а тут все, словно лучом фонарика, высветилось, да так ясно, что, будто на сломе горного камня, стала видна каждая жилка.
Он и об этом тут же написал и стал лихорадочно ждать ответа. Но ответ пришел нескоро, и в письме Владимир-Жан сухо сообщал, что, по рассказам прихожан, отец Анатолий тяжело заболел, при смерти, не встает и, наверное, уже не выздоровеет. За этой сухостью угадывалось строгое внушение, что с отцом Анатолием (как-никак духовник) неплохо бы и попрощаться.
Тогда-то Николай и собрался в Питер. Жене он сказал, что давно там не был, соскучился, хотел бы пройтись по Невскому и наведаться в «Англетер». Надя в ответ достала свою коробочку и стала примеривать серьги, что служило у нее знаком нервозности, мнительности и беспокойства.
– А твой отец Анатолий? – спросила она так, словно он по забывчивости что-то упустил, а она ему услужливо напоминала. – Ты с ним, конечно же, встретишься?
– Не будем об этом… – Николай давал понять, что, даже если он и встретится, это ничего не меняет ни в цели его поездки, ни в отношении к жене. – Отец Анатолий болен и, наверное, скоро умрет.
– Так встретишься или не встретишься? – настойчиво спрашивала жена, словно ее больше интересовала не болезнь отца Анатолия, а вероятность встречи с ним мужа.
– Не знаю. Если ты не против, может быть, к нему загляну.
– Загляни к нему, милый. Непременно загляни, – упрашивала Надя, лишь бы эта просьба совпадала с его желанием, а остальное – то, с каким затаенным мучением далась ей эта просьба, – не имело ровным счетом никакого значения. – Только не откладывай. Загляни сразу, а Невский и «Англетер» перенеси на потом.
– Хорошо, раз ты просишь, хотя… – Николай искал, в чем бы ему усомниться.
– Прошу, милый. Очень прошу! – Настя вдела в уши сережки и с заметным усилием улыбнулась, хотя уши были плохо проколоты и незаживающие ранки причиняли ей боль.
Рано простились
С попутчиками попрощались на платформе, и это было ошибкой, опрометчивой оплошностью: на платформе можно встречаться, расставаться же лучше, уже покинув вокзал, чтобы сразу же разойтись (разбежаться) в разные стороны. Но, видно, и Морошкин, и Жанна, и Боб, и Капитолина, да и сам Николай после душного вагона и толкотни в тамбуре опьянели от свежего воздуха.
И не только опьянели – разнежились (размагнитились) от невыразимо ленинградских запахов, носившихся в воздухе и круживших головы, и утреннего солнца, полого проникавшего под навес перрона.
И поэтому все пятеро напрочь забыли о том, что им еще вместе тащиться к самому концу перрона, где остановились локомотив и головной вагон, а затем – через весь вокзал до самого выхода.
Говорить же при этом решительно не о чем, поскольку все уже свершилось: простились, и можно лишь вновь и вновь напоминать друг дружке – об обещании увидеться завтра в заветном местечке (кафе неподалеку от Эрмитажа). И поглядывать на часы, словно они могут ускорить избавление от этой пытки – вынужденного и уже такого ненужного пребывания вместе.
Так сокамерники, сроднившиеся во время заключения, за воротами тюрьмы предают недавнюю дружбу ради обретенной свободы, с коей каждый отмотавший свой срок остается один на один…
Вот и Николай Добролюбов остался, и одиночество было ему всласть, чем он даже старался мысленно подкузьмить Морошкина с его буддизмом, утверждавшего, что жизнь – это сплошные страдания… Нет-с, почтеннейший Герман Прохорович, есть и радости в жизни, хотя, может быть, и мимолетные (в этом вы, пожалуй, правы), но все же есть. Посему и не стоит так уж спешить с тем, чтобы поменять их на эту вашу блаженную нирвану, а побарахтаться еще немного в нашей грешной сансаре, тем более что многие ваши единомышленники не без основания утверждают, будто нирвана обладает загадочным свойством одновременно быть и сансарой…
Вот такой фокус! Такой ловкий трюк! Если жизнь и впрямь иллюзия, как утверждает буддизм, то ваши иллюзионисты большие мастера своего дела.
Отсюда же и до Троицы недалеко, если принять мнение католиков, что Святой Дух исходит от Сына, Сын же принял бесчестие здесь, на земле (в сансаре), чтобы потом вознестись к Отцу (в нирвану).
Николай был доволен своими рассуждениями, и это подняло ему настроение. Поэтому, несмотря на обещание, данное жене, он все же не мог отказать себе в удовольствии пройтись (совершить дефиле) по Невскому проспекту.
Забросив за спину рюкзак, он мысленно поприветствовал коней Клодта на Аничковом мосту, дворец Кшесинской, с балкона коего выступал Картавый (второе прозвище – Лукич), золотой купол святого Исаакия Далматского – все знакомое с детства, милое и родное. Дошел до Зимнего дворца, взятого некогда штурмом оравой головорезов (так он трактовал октябрьские события).