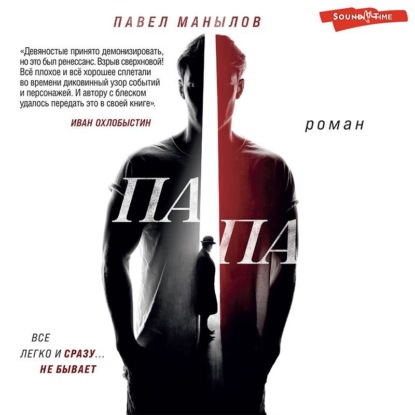Полная версия
Дневной поезд, или Все ангелы были людьми
Затем вернулся назад, порылся в любимом книжном, благо он уже открылся, высмотрел на прилавке и купил книжицу о Есенине (давно собирался, но все откладывал) и решил шикануть – взял такси до «Англетера», оправдывая себя тем, что надо беречь время, чтобы пораньше попасть к отцу Анатолию.
Отец Анатолий воскрес и поджидает
И вот, когда желтое, с шашечками, забрызганное грязью (после ночной грозы везде было море разливанное) такси подкатило к гостинице, Николай, поглядывавший в боковое окошко, замер от удивления. Даже, можно сказать, обомлел. И попытался этак сползти с сиденья и спрятать голову за спиной шофера.
Не прочь был бы и оторвать ее от туловища, чтобы она его не выдала.
Отец Анатолий, коего он представлял лежащим на высоких подушках и, словно умирающий поэт Некрасов, горбатящим худыми коленями белые простыни, – этот самый отец Анатолий во всей красе стоял перед ним. Жалкий, потерянный – не фараон, а избитый палками рыночный попрошайка, – он то смотрел куда-то в пустоту, то кого-то высматривал, выискивал взглядом.
А когда наконец заметил Николая, встрепенулся, весь вскинулся, издал горловой клекот (квохктнул), словно кречет, завидевший курицу, и бросился к такси.
Бросился и даже предпринял угодливую попытку дернуть дверцу, чтобы Николай мог вельможно выйти из кабины, и готов был постелиться ему под ноги, чтобы тот их о него вытер, не промочил и не замарал.
– Прошу, прошу! – суетился он и, пока Николай выбирался из кабины, волоча за собой рюкзак, стремился подхватить (поддержать под локотки) его то справа, то слева.
– Отец Анатолий, откуда вы? – спросил Николай, с трудом выпрямляясь после того, как был вынужден находиться в полусогнутом положении.
– Тебя поджидаю, тебя поджидаю. – Отец Анатолий потирал руки – ручонки, казавшиеся маленькими из-за широких рукавов подрясника.
Николай хотел было расплатиться с шофером, но отец Анатолий опередил его:
– Я сам. Сам. Сколько там на счетчике?
И припал к окошку кабины, просовывая шоферу деньги.
Николай попытался остановить его:
– Ну зачем же! Вы не должны!..
Но тот не позволил, расплатился по счетчику и еще накинул на чай.
– Ну вот… теперь хорошо, по-божески, – сказал он удовлетворенно, пряча кошелек в карман брюк спортивного вида, какие носят школьные физруки.
Николай окинул его внимательным, изучающим взглядом.
– Отец Анатолий, вы же больны, чуть ли не при смерти…
– Что ж, нашел в себе силы, превозмог. С Божией помощью. Мановением Десницы. Нужда ведь сильнее смерти. Она ведь и умирающего со скорбного ложа подымет и воскреснуть заставит. – Он не позволил себя осматривать и сам устроил Николаю дотошный смотр со всех сторон, словно продавец в примерочной модного магазина. – А ты молодцом. Одет простенько, но со вкусом. Раздобрел на жениных харчах.
Николай сдержался и не возразил – оставил сказанное на его совести. Лишь спросил:
– Что за нужда была сюда ехать?
– А тебя, милый, встретить. Чтобы ты от меня не ушел, как колобок от деда и бабки. Вернее, не обошел меня, влекомый соблазнами. Ты же, небось, с веселой компанией сюда ехал. С гитарой.
По этому поводу Николай тоже не стал возражать, чтобы не волновать понапрасну отца Анатолия: он все еще считал его смертельно больным.
– Не с гитарой, а с чашей пепла в особой капсуле, – сказал он тихо, как бы про себя, а затем спросил уже громче: – А как вы узнали, что я приеду и что буду здесь?
– Где ж тебе еще быть! Только здесь, возле «Англетера», и на Невском. Но я побоялся, что на Невском мы с тобой разминемся, и решил здесь дожидаться.
– Но как вы узнали-то?
Отец Анатолий подумал, подумал и сказал честно и откровенно:
– Из твоих писем.
– Я ж вам не писал.
– Не писал, хотя и мог бы письмишком порадовать. А то убег в Москву – и ни слова. Молчок. А ведь я все-таки твой духовный отец. Наставник и советчик. – Отец Анатолий пожевывал губами, стараясь не показывать зубов: передний был у него выбит и тем самым нарушалось благообразие его внешнего облика. – Зато брату моему ты писал. Я тебе раньше не говорил – ты уж прости, но Жан-Владимир ведь мой брат. У нас и отчества одинаковые, хотя мы не единоутробные, а единокровные, от разных жен то бишь.
– Владимир Жанболатович ваш брат?! – спросил Николай на едином выдохе.
– Брат, брат – соизволением Божиим.
– И он вам мои письма показывал?
– Показывал.
– И вы их читали?
– Все до единого. И читал, и перечитывал, и даже кое-какие выписки себе делал. Поэтому все о тебе знаю. И не надо было тебе от меня бегать. Сидел бы здесь, в Питере, у меня под боком. – Отец Анатолий глубоко вздохнул и на выдохе уронил перед собой худые плети рук, словно высказав все, о чем долгое время сказать не решался. – Ну вот, во всем тебе признался, словно ты теперь мой духовник. И на душе легче стало, а то ведь ноет, ноет душа, гудит, как растревоженный пчелиный улей. Теперь и ты признавайся – тебе тоже полегчает.
– В чем? – спросил Николай не оттого, что чего-то не понимал, а потому, что все понимал слишком хорошо.
– А ты не догадываешься?
– Может, и догадываюсь, но вы все равно скажите.
– Сказать, сказать… – Он как-то странно завертелся на месте, обматывая вокруг ног полы подрясника. – Не так-то это легко – сказать-то…
– А вы попробуйте…
– Ну изволь, изволь, раз ты просишь. Почему ты, раб Божий, тогда не пришел? И вообще после этого сбежал в Москву? Чем она лучше, Москва-то?
– Когда это – тогда?
– Ну в тот самый день… судьбоносный… осенью.
– Потому что мне явился и меня остерег один человек.
– Кто ж это? Кто? Назови.
– Если я назову, вы не поверите.
– Считай, что уже поверил.
– Сэр Брунетто Латини, – произнес Николай и сам испугался своей смелости.
– Это кто ж такой? Иностранец? – Отец Анатолий что-то неладное заподозрил.
– Один из ранних флорентийских гуманистов, учитель пятнадцатилетнего Данте, коего он чуть было не совратил из-за девичьей нежности, ангельской красоты его лица. А Данте его потом поместил в седьмой круг ада.
– Ах, опять этот седьмой круг! – взвыл духовник. – Мы же о нем с тобой толковали, толковали, но, видимо, зря, впустую. Чего-то ты не уразумел. Не усек, как выражается молодежь. Что ж, расскажи мне, а я послушаю. Может, вместе уразумеем.
Рассказ Николая
Они сели на лавку, еще не просохшую после ночного ливня, с лужицами вокруг изогнутых ножек; Николай снял со спины рюкзак и стал рассказывать:
– В тот день, о коем вы говорите, я с утра собирался к вам. И было мне как-то не по себе. Заваривая чай, я даже обжег себе палец, чего раньше никогда не случалось: слишком много набухал кипятку в чайник и из-под крышечки потекло. Видно, руки слегка дрожали. И я поднялся к себе на чердак, чтобы посидеть немного в кресле и успокоиться. А кресло у меня, как вы знаете, особое, с ленинградской помойки, старинное, с потускневшими лаковыми подлокотниками, продавленным сиденьем, откуда торчат пружины, какая-то пакля и войлок. И надо исхитриться, по-особому на него сесть, этак бочком пристроиться, чтобы пружина не продрала штаны и не впилась, как пиявка, в зад. Этот секрет знал только я, поэтому гостям своим никогда не предлагал сесть в кресло.
– Мне ты тоже не предлагал, когда я у тебя бывал. Берег меня. Спасибо за сыновью заботу, – сказал отец Анатолий без всякого упрека, а если подобие упрека все же проскользнуло, то касался он того, что это бережное отношение к нему Николая потом поослабло.
– Вот видите, – продолжил Николай, не замечая упрека, чтобы не отвлекаться от своего рассказа. – А тут смотрю, в кресле кто-то сидит этакой призрачной тенью. И никакая пружина его не смущает, в зад ему не впивается. Что за чудеса! К тому же этот незваный и неведомый гость еще за моей продранной ширмой китайской (тоже с помойки: старушки вынесли во двор) прячется. Развернул ее створками (створки – с хризантемами, аистами и буддийскими сюжетами о прошлых жизнях Блаженного) так, чтобы она создавала ему убежище, скрывала от посторонних взоров.
– Стало быть, ты на своем чердаке уже посторонний… – кашлянул в кулак (кулачок), кхекнул отец Анатолий.
– Пусть даже и так, но я особо не удивился. Замка у меня на чердаке нет, и туда частенько жаловали непрошеные гости – дворомыги всякие, алкаши или сбежавшие от домашних фурий, своих сварливых жен, мужья. Я даже спрашивать не стал, кто он, этот гость. Надо будет – сам назовется. А лезть с назойливыми расспросами, допытываться, дознаваться – значит выдавать себя за хозяина, а эта роль, признаться, не по мне.
– Ты не собственник – уж это точно… – удовлетворенно заметил отец.
– У меня в неприкосновенной собственности лишь один чердак – моя дурацкая башка, а этот, завешенный простынями, мне не принадлежит: он общий.
– Как у Адама и Евы в раю, – отец Анатолий авторитетно сослался на Библию.
– Вот я вместо кресла устроился на трехногом стуле, под обшивкой коего когда-то хранились фамильные бриллианты, из-за них и был совершен октябрьский мятеж, – пошутил Николай, зная, что отец Анатолий любит такие шутки. – Устроился и молчу. Дую себе на палец, обожженный чаем, и потряхиваю в воздухе рукой: все-таки крутой кипяток не шутка.
– Что ж, так и просидели с вашим гостем?
– Отнюдь. По прошествии недолгого времени гость мне и говорит: «Наверное, нам стоит познакомиться». «Что ж, давайте, – отвечаю я, – хотя сия процедура необязательна. Сюда многие заходят и уходят безымянными». – «Допустим, что я флорентиец, один из ранних гуманистов Брунетто Латини. Во всяком случае, буду говорить от его имени». – «Нет, так не пойдет. Либо вы Брунетто, либо кто-то другой. Тут нужна определенность. Мы не в театре, чтобы вещать от чьих-то имен».
– И что же он на это?
– Согласился: «Да, я Брунетто». И перечислил все свои звания и титулы.
– И много их у него?
– Порядочно. Но при этом он честно признался, что все его звания сгорели в адском пламени и у него самого лицо обожжено серным огнем, как у узника седьмого круга.
– Ах, хватит, хватит! Слушать не могу!
– Нет, вы послушайте, отец Анатолий. Вам полезно. Тут такая драма! Когда Данте, юный и прекрасный, радовался жизни, когда уголки рта у него еще не были опущены и наполнены горечью, а губы еще не сложены язвительной складкой, Брунетто ему покровительствовал. Их всюду видели вместе, старого и малого. И он любил его, старый греховодник, о чем пятнадцатилетний отрок догадывался. Чуткий ко всему, что происходит в области чувств, и сам уже обожающий Беатриче, не мог не догадываться, хотя, наверное, рассудком и не все понимал. И вот наступает решающий момент. Брунетто зовет его: «Приди!» Этот любовный, старческий зов отвратителен.
– Прекрати. Ничего отвратительного в этом нет. Великий Гете тоже полюбил на старости лет и хотел жениться.
– Гете полюбил девушку – Ульрику фон Левенцов, а Брунетто Латини полюбил мальчика – Данте.
– Ну и что же? В тогдашней Флоренции такое бывало сплошь и рядом. Все любили мальчиков. И гуманисты, и их противники, и гении, и бездарности – все!
– И всех их ждал седьмой круг.
– И что же – Данте откликнулся на зов? – хмуро спросил отец Анатолий.
– Я тоже спросил об этом моего Брунетто, сидевшего в кресле за ширмой. И тот многозначительно промолчал, из чего следовало, что не только Данте не откликнулся, но и я должен поступить так же, если хочу избежать страшного падения в бездну. В отличие от юного Данте я ясно понял этот молчаливый намек. Но Брунетто счел нужным еще добавить, произнести из-за ширмы: «Вы не должны сегодня идти на встречу». На встречу с вами, отец Анатолий.
– Откуда он знал про встречу?
– Видимо, таким людям дано свыше чуть больше, чем нам.
– Ах, эти прозорливцы! Того и гляди на такого напорешься…
– Вот вы, отец, и напоролись, как на острый гвоздь, и поранились. Вон даже слегли из-за этого. Может, он и вам являлся?
– Все тебе расскажи! Не являлся он мне.
– А если по правде?
– Явился однажды… в зеркале. Ха-ха-ха!
– Это как понимать?
– А так и понимай, что, подстригая однажды бороду перед зеркалом, я так себе и сказал: «А ведь ты, отец, вылитый Брунетто Латини, флорентийский гуманист и безбожник. И к тому же мальчиков любишь, как однажды писатель Сологуб, автор “Мелкого беса” и сам изрядный бес, сказал писателю Бунину: “А вы, наверное, мальчиков любите”». Ха-ха! Хе-хе-хе! – Отец Анатолий затрясся от смеха.
– Ну вот и объяснились мы с вами. – Николай встал, закинул за спину рюкзак и тычком двух пальцев придвинул к переносице круглые очки. – Бывайте…
– А навестить больного? – спросил духовник без всякой надежды, поправил подрясник и тоже встал, как солдат встает в строй, поправляя под ремнем гимнастерку. – Впрочем, будем считать, что уже навестил. И ты бывай. Лишь один вопрос напоследок. Как он выглядел?
– Кто именно?
– Ну он, он, твой Брунетто, который в кресле за ширмой?
– Так он за ширмой, вы сами сказали.
– И не предстал пред тобою во всей красе?
– Во всей красе не предстал, а так… в пиджаке…
– Что ж, они умеют менять облики…
– Умеют, – сказал Николай так, словно это было последнее, в чем он позволил себе согласиться с отцом Анатолием.
– Ты часом не в буддизм теперь намылился? А то в Ленинграде мода такая пошла. Все в буддистов перекрашиваются. С ума посходили…
Николай хотел было что-то ответить, но промолчал, чтобы не сказать лишнего. А отец Анатолий во второй раз не спросил, дабы лишнего не спрашивать.
На том они и расстались.
Тонкость психологическая
– Николаша! Голубчик мой! Приехал! Дай-ка посмотрю на тебя!
– Как видите, приехал, Владимир Жанболатович.
– Студенты про Владимира уж и забыли и меня величают теперь Жан-Жак, как Руссо. Надеются, что я прощу им незнание «Исповеди» и «Новой Элоизы». – Новоиспеченный Жан-Жак нашел повод себя упрекнуть в слабости (сладости), с которой безуспешно боролся. – Впрочем, я, как всегда, слишком занят собой. Прости, ради бога. Давай о тебе. Стало быть, ты прибыл в родные места.
– И не только прибыл, – Николай был рад вставить словечко, – но успел уже купить на Невском книжку о Есенине…
– Ну-ка, ну-ка, покажи… – Жан-Жак изобразил не слишком искренний интерес.
Николай снял рюкзак, расстегнул кармашек и достал книгу, которая едва в нем помещалась.
– Вот, взгляните…
– Так это ж старая… два года как издана. А чего-нибудь поновее не было? О Есенине много чего выходит. Спохватились.
– Мне не попалось.
– Тогда, так и быть, я тебе подарю… – Жан-Жак достал с интригующим (заговорщицким) видом книжицу.
Прежде чем взять у него из рук книгу, Николай сказал:
– А еще я успел повидаться с вашим братом…
– Каким это братом?
– А разве у вас их много? С отцом Анатолием…
– Ах, господи! Все его величают отцом – вот я подчас и забываю, что он мой брат.
– Меня известить об этом вы тоже забыли? – Николай посмотрел ему в глаза.
– Ах, прости, прости. – Жан-Жак отвернулся.
– Я ведь понятия не имел о вашем родстве с отцом Анатолием. И не догадывался, что о моих письмах вы тотчас докладываете брату и их содержание становится ему в деталях известным.
– Я не то чтобы докладываю… тут есть одна тонкость, и ее следует учитывать, чтобы не ошибиться в чем-то очень важном, мой друг. И чтобы у тебя не сложилось превратное мнение. Помнишь «Обломова»? У Ильи Ильича и Ольги бурный роман, страстная любовь, свидания, признания и все такое, а она в письмах аккуратно сообщает об этом Штольцу. Значит, в уме она держит все-таки Штольца как будущего мужа и стремится, чтобы у него не возникло насчет нее никаких подозрений. И Ольга перед Штольцем чиста. Но вся штука еще и в том, что она и перед Обломовым чиста, эта бестия Ольга. Она по-женски все предусмотрела. Вот где тонкость психологическая – что твой Достоевский. Гончаров частенько соревнуется… очень точное слово, поскольку в нем и ревность, и соревнование. А в литературе все это вместе… Так Гончаров соревнуется и побивает Достоевского (а мог бы и Тургенева, и Толстого) тем, что Ольга чиста и невинна перед обоими. Вот и я перед вами чист, мой друг…
– Неужели? А я уж готовил вам страшную месть.
– Тем не менее я чист, как непорочный агнец, ведь отец Анатолий мой брат, причем он старше на два года, и я с детства привык во всем ему подчиняться.
– А я?
– Вы для меня то же, что Обломов для Ольги. Вы пришли извне, и вы явление временное. К тому же я по натуре предатель. Предатель не в моральном, а опять же в психологическом смысле. Вот так, друг мой… люди сложны. Достоевский призывал заузить человека (человек слишком широк для него), а я предпочел бы упростить. Предпочел бы очистить от всяких там мелочей, соскрести их, как накипь. – Жан-Жаку немного наскучили собственные речи. Он слишком часто произносил их с кафедры, чтобы еще и дома отдаваться потоку собственного красноречия. Поэтому он решил вместо речей обрадовать Николая неожиданным признанием: – Между прочим, я приготовил вам сюрпризон… – Жан-Жак выдержал томительную паузу, желая определить по лицу Николая, какой эффект произведут на него эти слова.
– Еще одну книгу? – Николай напоминал, что уже получил от него подарок.
– Что все книги да книги! Я приготовил сюрприз иного рода – знакомство с одной старушкой, петербуржанкой (люблю это слово), которая когда-то девушкой убирала в номерах «Англетера». И видела перед смертью Есенина. Тогда ее звали Нюрой, а сейчас она Анна Вадимовна. Впрочем, иногда она зовет себя Прохоровной – в знак особой признательности одному человеку. Что – довольны? Теперь не станете вершить свою страшную месть? А? Ха-ха-ха!
– Не может быть! – только и мог произнести в ответ Николай.
Жан-Жак воспользовался этим, чтобы изречь, причем не без некоторого апломба:
– Раз в Петербурге могут быть революции, то там все может быть, мой милый. Даже буддийские кружки. – Он обозначил голосом, что неспроста использовал это слово – «буддийские».
Тут Николай совсем растерялся.
– Буддийские, а не православные? Есенин же был православным.
– «Все пройдет, как с белых яблонь дым». Пожалуйста вам, Есенин. А ведь это чистейший буддизм.
– И Анна Вадимовна посещает такой кружок?
– Возглавляет! Впрочем, вы сами все увидите. И – услышите. Только не удивляйтесь: при встрече она прежде всего вам скажет, что вас на самом деле нет. Она и мне такое говорила. Ха-ха! Что-то я развеселился – как бы плакать не пришлось.
– Меня нет? – Николаю показалось, что он ослышался.
– Как личности. Как личности, разумеется. И еще запомните дату: второе декабря. Анна Вадимовна вас о ней непременно спросит.
– А что это за дата?
– После, после. Зная, что вы едете ночным поездом, я договорился о встрече на двенадцать. Поэтому с выстрелом пушки мы должны быть у нее. Так что и предатели могут быть иногда полезны, а? – Жан-Жак подмигнул и тотчас придал лицу самое серьезное выражение, словно подмигивать в таких случаях мог кто угодно, но только не он.
Раскосые китайские глаза
– Прошу, прошу. Заходите. Я вас давно дожидаюсь. Второй раз ставлю разогревать чайник на огонь, хотя дома и без того жарко. И пирог пришлось накрыть салфеткой, а потом еще платком от мух, чтобы они его не засрали – извините за грубое слово: оно меня дискредитирует и к тому же портит мне карму. Но бить этих мух еще хуже, поскольку, сами понимаете, ахимса – ненанесение вреда живому. А нанесешь этот вред и тем самым согрешишь. Словом, куда ни кинь – всюду клин. Я погрязла, и не столько в своих грехах, сколько в требованиях Пратимокши – дисциплинарного Устава, будь он неладен. Ах, что это я! Молчок. Я этого не говорила, а сказала противоположное: ладен, ладен. Вы ведь слышали, что я именно это сказала. Вернее, прожужжала, как муха. Я сама и есть муха – меня бы кто прихлопнул.
Гости вежливо и терпеливо выслушали этот монолог (молоток), переминаясь на пороге, и Жан-Жак сказал:
– Вот Анна Вадимовна, знакомьтесь. Молодой человек правильных православных воззрений.
– Похвально. Но почему не буддийских?
– Еще не созрел, но подает надежды.
– Созревают овощи на грядках, а человек прозревает. Вот и вы, юноша, еще прозреете и постигнете значение Четырех благородных истин. Во всяком случае, я надеюсь.
– Николай Добролюбов, – назвал себя гость, чтобы она могла обращаться к нему по имени.
– Очень приятно. Только прошу учесть, что никакого Николая Добролюбова как личности не существует, а есть поток сознания, носящий это имя. Причем сознания разорванного, клочковатого, хотя мы не всегда это замечаем. Вот я, к примеру. – Она выпрямила спину, подбоченилась и приняла позу, чтобы служить хорошим примером. – Разговариваю с вами, выслушиваю всякие там любезности, а сама поглядываю на носки моих туфель и думаю, что они запылились – надо бы щеткой провести разок-другой. При этом почему-то вспоминаю, что на даче иссяк газ в баллонах, что у меня опять завелась моль, а Платон Каратаев у Толстого сравнивает счастье с неводом: тянешь – надулось, а вытащишь – нет ничего. Никакой логики! Где ж тут моя личность, мой единый атман? – Это слово Анна Вадимовна произнесла по-французски в нос.
– Мы все рассыпаемся на дхармы, элементарные сгустки сознания, – авторитетно заверил Жан-Жак, слышавший это от самой хозяйки и поэтому уверенный, что она с ним согласится. – Я вот тоже, казалось бы, занят разговором, а в голову приходят мысли, с ним совершенно не связанные.
– Какие же, мой милый?
– Скажем, о том, что в Комарово я больше не поеду: там все опошлилось. Приглашать в оппоненты Зайцева – значит зарубить докторскую диссертацию, а докторскую колбасу не стоит больше покупать, поскольку она безнадежно испортилась.
– Да-да, мой милый. Я тоже докторскую больше не беру. А если беру, то лишь на Невском, в проверенном гастрономе – Елисеевском и больше ни в каком. С меня хватит. Однажды я ею чуть не отравилась.
– Ну и о Есенине всякие мысли… – Жан-Жак попытался вырулить в сторону Есенина, но Анна Вадимовна на это не откликнулась, поскольку была поглощена разорванностью собственного сознания.
– Ах, подождите вы с Есениным. В наших головах – хаос. Не логически выстроенные мысли, а клочки и обрывки.
– Значит, с буддийской точки зрения я прав, когда говорю студентам: «У вас каша в голове!»?
– Совершенно правы, мой милый, – произнесла Анна Вадимовна так, словно он оставался бы для нее милым, даже если б был не прав. – К этому постепенно приходит психология Запада. Кстати, она у буддизма заимствует мысль, что собственный психический опыт невозможно никакими средствами передать другому.
– Психология, но в еще большей степени литература. – Жан-Жак все еще надеялся вырулить в нужную сторону.
– Да, да, да! Литература – особенно. Буддийское понимание личности очень хорошо прослеживается в западной литературе – литературе «потока сознания». Разорванность сознания там главный принцип. Вот я вам прочту из Вирджинии Вулф. Она волшебница, волшебница!
– Анна Вадимовна, а Есенин?
– После, после. Проходите сюда, в гостиную. Сядайте, гоноровые пане. Вот послушайте. – Она достала книгу, которую носила за пазухой, в складках платья, прижатой к сердцу. – «“А если завтра будет неважная погода, – сказала миссис Рамзи, мельком взглянув на проходивших Уильяма Бэнкса и Лили Бриско, – то мы выберем какой-нибудь еще день. Сейчас, – продолжала она, раздумывая над тем, что обаяние Лили заключается в ее раскосых китайских глазах на матово-бледном морщинистом личике, только не всякий мужчина это поймет, – сейчас встань прямо и дай ногу”, – потому что рано или поздно они поедут на Маяк и на этот случай надо знать, не сделать ли чулок подлиннее. В ту же минуту ее обожгла радостью прекрасная мысль – Уильям и Лили поженятся, и, улыбнувшись, она взяла пестрый шерстяной чулок с перекрещенными в его горловине спицами и примерила его по ноге Джеймса. “Милый, стой спокойно”, – одернула она Джеймса, который переминался с ноги на ногу, ревнуя ее к сынишке смотрителя Маяка и недовольный ролью манекена; если он все время вертится, то как, скажи на милость, она поймет, длинен чулок или короток». Каково? – Анна Вадимовна оглядела гостей с победоносным чувством превосходства, как будто она сама это написала.
– Да, неплохо, – согласился Жан-Жак, и согласился ровно наполовину, поскольку полное согласие с ней унесло бы Анну Вадимовну бог знает куда.
– «Неплохо». Превосходно! В одной фразе Джеймс ревнует к сынишке смотрителя, а миссис Рамзи не может понять, длинен чулок или короток. В одной фразе! А начало? Она обеспокоена тем, какая будет погода, и при этом раздумывает о раскосых китайских глазах Лили, умудряясь следить за тем, чтобы малыш стоял прямо. Вот вам разорванное сознание, иллюзия личности – чистый буддизм.