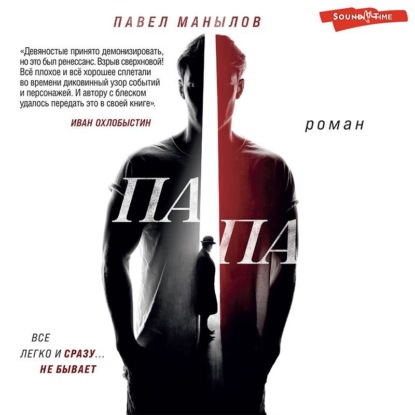Полная версия
Дневной поезд, или Все ангелы были людьми
Это привело к тому, что и Прохору Достоевский заменил детские книжки, а уж подростком он зачитал до дыр «Подростка» и воспламенился ротшильдовской идеей, впрочем ненадолго, поскольку к идее этой быстро охладел. Деньги он разлюбил, фарфоровую кошку с прорезью на спине вдребезги разбил молотком (монеты закатились под диван, откуда их пришлось выгребать веником), накопительство и богатство перестало его интересовать.
Перестало после того, как он узнал, что его прадед, по приговору новой власти потерявший все и обращенный в лагерную пыль, оказывается, на соловецких нарах принял буддизм. Это смутило и озадачило юного Прохора. Захотелось узнать, что это за буддизм и как он будит – пробуждает – спящих (о том, что буддизм именно будит, сын догадался сам, без подсказок).
За более подробными сведениями Прохор обратился к отцу, но тот был занят тем, что, сидя за столом, что-то писал, нервничал, комкал бумагу и бросал в корзину. Поэтому Герман Прохорович не распознал в вопросе сына того пытливого интереса, который, не найдя удовлетворения вовне, проникает вовнутрь и старается возместить недополученные от других знания собственной интуицией.
Интуиция от этого получает толчок к развитию и чудовищно разрастается, словно жадно пульсирующую губку, напитывая сознание животворным потоком крови. Хотя, прежде чем это произошло (а такое происходит не сразу), Прохор еще пытался расспрашивать о буддизме учителей, но грузная математичка в черном платье и мужских ботинках от него негодующе шарахнулась, словно он перепутал числитель со знаменателем, отчего все вокруг перевернулось с ног на голову. Географичка посмотрела на него с умиленным участием, как на любознательного дурачка, и сказала: «Когда-нибудь, я надеюсь, ты объяснишь мне, что это такое, этот самый твой буддизм. Я буду тебе за это очень признательна, поскольку я сама за это денег не получаю».
А физик, обожавший бутафорию и клоунаду, с комичным глубокомыслием отдалил от носа пенсне, трубно высморкался, снова оседлал им нос и отмочил свою излюбленную шутку: «Я отвечу на твой вопрос, мой милый, если ты мне поведаешь, как все же звали жену Бойля-Мариотта. Ха-ха-ха!»
Прохор поначалу посчитал этот смех оскорбительным, готов был отвернуться и обидеться. Но затем обида отпала, поскольку он вдруг почувствовал, что сам изначально знает то, о чем спрашивает. Это и было пробуждением интуиции. Интуиции, которая отныне вечно бодрствовала и никогда не засыпала.
С этой поры привычное чуткое внимание родителей ко всему, что в нем происходило, наталкивалось на невидимую стену. Прохор от них не то чтобы закрылся, но придал своей откровенности формы, кои они принимали за что угодно, но только не за откровенность, поскольку откровенность не может быть такой непонятной и нести в себе столько загадочных парадоксов. «Почему ты перестал смотреть на себя в зеркало?» – спрашивали они. Он откровенно пытался им что-нибудь объяснить, но они выслушивали сына с настороженным и мнительным подозрением, что за его словами скрывается насмешка (или даже издевка), что Прохор им не доверяет, считает их ниже себя и желает поскорее от них отделаться.
Поэтому и они не то чтобы закрылись, а позволили себе некое предубеждение в отношениях с ним. Вместо того чтобы, как обычно, принять его в свои объятья, мать и отец соблюдали сдержанность, некую разумную дистанцию и границу. Они торжественно обещали себе жить собственной внутренней жизнью, своими разнообразными пристрастиями, налагая этим на него известное наказание.
Когда он появлялся в их комнате, они брали с полки зачитанного ими до дыр Достоевского, словно Достоевский был им гораздо интереснее, чем собственный сын. И при этом украдкой – умоляюще – смотрели на Прохора, словно прося у него прощения за то, что его же наказывали.
Прохор о таком наказании (да еще с мольбами!) мог только мечтать, поскольку оно и ему предоставляло законное право тоже предаться внутренней жизни, а ему она – внутренняя – давалась куда легче, чем им.
Герман Прохорович с женой к этой внутренней никак не могли до конца приспособиться, переворачивая ее и так и этак, словно нагретую подушку, и все равно казалось неудобно, где-то покалывало, где-то выпирало, где-то, наоборот, проваливалось. Он же со своей подушкой как лег, так и до утра не вставал: спал как убитый. Такова была его недоступная им внутренняя жизнь. Им же доставались лишь внешние признаки, кои они могли по-своему истолковывать, спорить, гадать, ошибаться и сетовать, что в какой-то момент (ах, как они любили ссылаться на этот неведомый, недоступный их разумению момент!) утратили некий контакт – точку соприкосновения – с сыном.
«Это я во всем виноват», – каялся Герман Прохорович и в сотый раз рассказывал, как он, сидя за столом, что-то писал и поэтому не уделил нужного – необходимого как воздух! – внимания сыну. Жена его успокаивала: «Если бы не этот момент, то какой-нибудь другой. Все равно контакт был бы утрачен». Они так и остались со своими моментами и контактами, словно провожающие на платформе станции, под часами, – с раскрытыми над головой зонтами, а поезд Прохора – дневной поезд! – устремился вперед.
Мандала – диаграмма вселенной
Собственно, замечаемые признаки ни о чем им не говорили. Пропадает в библиотеках? Ну и что?.. Приводит в дом странных людей бурятской внешности, с плоскими, почерневшими от загара, морщинистыми лицами? Ну приводит, да и ладно, и что с того?
Расстилает перед собой коврик с начертанной мандалой – диаграммой вселенной, расставляет на нем устрашающие или благостно-умиротворенные бронзовые фигурки и предается созерцанию? Их это ничуть не тревожит, поскольку, кроме мандалы, есть еще Нельсон Мандела, и это никого не пугает, почему же какая-то мандала должна их пугать, тем более что Герман Прохорович рассказывает о ней на лекциях студентам?
А бронзовые фигурки, как объясняет жене тот же Герман Прохорович, есть не что иное, как изображение буддийских божеств, с которыми созерцатель старается себя отождествить и тем самым улучшить свою карму, что по-своему любопытно и, наверное, даже полезно. Ведь он не ухудшает, а именно улучшает, любое же улучшение не должно порицаться, будь оно хоть буддийским, хоть мусульманским, лишь бы не вредило здоровью и не противоречило диалектическому материализму.
Впрочем, и небольшое противоречие не помешает, поскольку вся диалектика основана на противоречиях… Тезису противоречит антитезис, и из этого рождается что-то третье… кажется, похожее на синтез.
Так рассуждала жена Германа Прохоровича, подкованная по части диалектики, поскольку одно время стенографировала и печатала на машинке в ВПШ – Высшей партийной школе, а там диалектика шла через каждые два слова.
Но жену сгубил проклятый насморк, как уже не раз было сказано. Ее похоронили тихо, без речей и оркестров, под шум моросящего дождя. Опустили на широких лентах гроб и засыпали землей.
Герман Прохорович с сыном заказали высечь на могильной плите профиль умершей. А рядом – контур пишущей машинки с заправленным в нее вместо бумаги зубчатым кленовым листом. Смешная, конечно, прихоть – причуда, фантазия, но они посчитали, что умершей будет приятно, словно там, на небесах, она по клавишам своей машинки еще всласть постучит. И при этом порассуждает о диалектике…
Нашли в конторе тетю Маню, заплатили ей, чтобы разгребала снег, скалывала лед, сметала с мрамора вскоробившиеся сухие листья и вообще убиралась на могилке. Поддерживала порядок и зимой, и летом.
Вернувшись домой, удивились оглушающей – звенящей – тишине в комнатах и поняли, что остались одни.
Но одни – это еще не так страшно, как один. Весь ужас одиночества Герман Прохорович осознал, когда не стало сына. Вернее, он стал, но кем-то совсем другим – судя по спокойному, умиротворенному и благостному (тихая, нездешняя радость) лицу, с каким его хоронили.
После похорон Герман Прохорович сел в кресло, расставил перед собой бронзовые фигурки и почувствовал, что его душат спазмы, что он готов разрыдаться и сейчас разрыдается, если сын не постучит, как обычно, в дверь, не попросит разрешения войти и не заговорит с ним о буддийских уставах, обетах, клятвах – о Пратимокше.
И вдруг послышался слабый, тающий стук в дверь. «Да-да, войдите», – немеющим языком беззвучным и при этом оглушающим шепотом произнес Герман Прохорович. И Прохор вошел. И – заговорил. И улыбнулся ему своей обычной застенчивой улыбкой.
Герман Прохорович, конечно, себе не поверил, посчитал это дурью, блажью, нелепостью, болезненной игрой воображения. Он заслонился руками, а потом беспорядочно замахал ими, отгоняя бесовское наваждение: «Сгинь! Пропади!»
И наваждение исчезло, но вместо него явилось трезвое сознание, что он прогнал не кого-нибудь, а собственного сына, явившегося, чтобы сказать, что он не может быть один, что рядом с ним должен быть кто-то сокровенно близкий, кто постучится в дверь, войдет и улыбнется ему застенчивой и потаенной улыбкой.
Обещанный секрет
За окном посверкало, дальними раскатами прокатился по небу, шелохнулся, ворохнулся гром, но гроза так и не разразилась – лишь порывом ветра швырнуло в окно пузыристую дождевую влагу, распластавшуюся по стеклу, и все затихло. Только еще слышнее, отчетливее дробным стуком застучали колеса, с крыши вагона снесло ветром косую капель, и заструились редкие стеклярусные нити, оставлявшие на стеклах игольчатый пунктир.
– Я хочу открыть вам один секрет, – сказала Капитолина так, словно этому предшествовало долгое размышление – открывать или нет, и, чтобы решиться все-таки открыть, ей пришлось преодолеть немалые сомнения. – А уж вы, пожалуйста, отнеситесь к нему как подобает. – Она смотрела себе под ноги, чтобы не смотреть на тех, кто мог слышать сказанное, ничего в нем не понимая и даже не пытаясь понять всей серьезности ее собственного отношения к секрету.
– А когда я относился несерьезно! – Герман Прохорович сопроводил пытливым взглядом грозовой отсвет в окне. – По-моему, я-то сама серьезность и есть… так сказать, собственной персоной. Правда, сия персона, чтобы не соблазниться намыленной удавкой, позволяет себе всякие шуточки.
– Хорошо. – Она смирилась со сказанным, хотя ничего хорошего в нем не находила. – Только не здесь, а в моем купе, где никого нет.
– На все согласен. И готов сопроводить вас в соседнее купе, если только его не заняли запоздавшие пассажиры. – Морошкин встал, выражая готовность, продиктованную не столько жаждой секретов, сколько обычной вежливостью, но, чтобы не разочаровывать Капитолину, все-таки изобразил некую заинтригованность. – Ей-богу, обожаю секреты.
– Врете, – сказала она тихо, обращаясь к самой себе и не считаясь с тем, что он ее тоже слышит.
– Что-что? Извольте объясниться! – Морошкин слегка поднял тон.
– Что тут объясняться. Ничего вы не обожаете. Вам сейчас не до этого. Вы сами сказали, что вся ваша забота – не удавиться. Но раз уж обещали сопровождать, то сопровождайте.
– Слушаюсь и повинуюсь. Когда я был маленьким, то считал, что секрет – от слова секретер, что в секретере-то и хранятся секреты. Однажды я повернул ключик, откинул крышку и заглянул вовнутрь, но там… кроме старых бумаг и скопившейся пыли, ничего не оказалось.
– Так, может, в бумагах и заключался весь секрет…
– Там было что-то написано, но я никогда не читал бумаг, написанных взрослыми. Для меня это было делом чести. И я никогда не брал забытых кем-то на буфете денег, хотя знал, что их не будут пересчитывать, а просто сгребут и спрячут в карман. Я и сына Прохора таким воспитал.
– А я в детстве изнывала от желания, чтобы кто-то забыл на буфете денежку и она досталась мне. Я жаждала обогащения, мечтая на все деньги накупить конфет, – призналась Капитолина и протянула ему леденец, случайно оказавшийся в кармане. – Вот это все, что осталось от моей мечты…
Герман Прохорович бережно развернул леденец и положил в рот.
– Очень вкусно. Не жалейте ни о чем.
– А я и не жалею, – сказала Капитолина так, словно в его присутствии не жалеть ни о чем для нее было так же радостно и приятно, как и жалеть о чем-то.
Шарфик
– Ну и что же за секрет? – спросил он, когда они перешли в соседнее купе, расчистили место на нижних полках, сдвинув ее чемодан, и уселись рядышком – так же, как они сидели прежде.
Но это ей чем-то не понравилось, и Капитолина пересела на другую полку.
– О чем вы спросили? – Она улыбнулась, извиняясь за свою забывчивость.
Он тоже не преминул посетовать, что иногда кое-что забывает:
– Разве я спросил? Когда?
– Ну только что, только что. – В ее голосе послышались нотки едва сдерживаемого нетерпения.
Морошкин постарался ответить как можно обстоятельнее, ничего не упуская из того, что может оказаться важным в той игре, которую они оба зачем-то – по неведомым причинам – разыгрывали:
– Я спросил, что же за секрет вы собираетесь мне открыть.
– А никакого секрета нет, – ответила она, удивляясь, что он не догадался об этом сам. – Вот видите, я обвинила вас в том, что вы врете, и сама вам все на-вра-ла, – произнесла она по слогам слово, как будто, произнесенное слитно, оно недостаточно уличало ее в обмане.
– А зачем же вы меня сюда позвали в таком случае?
Герман Прохорович привычным жестом поправил на коленях портфель и с удивлением обнаружил, что там нет никакого портфеля: портфель остался в его купе.
– Позвала, чтобы вас завлечь.
– Зачем, зачем? – Чем настойчивее он спрашивал, тем яснее все понимал.
Капитолина загадочно пожала плечами.
– Зачем завлекает женщина… вот и я затем же…
– Это прекрасно. – Морошкин озаботился тем, чтобы вытащить из-под себя шарфик, на который он случайно сел. Герман Прохорович аккуратно разгладил прозрачный шарфик на колене, подбросил и дунул, заинтересованно разглядывая, как он плавает в воздухе. – Это позволяет мне сказать… – Шарфик стал снижаться, и он снова дунул. – …Сказать …сказать, что я без вас жить не могу. Еще вчера я вас не знал, а сегодня… сегодня так получилось, что не могу без вас жить. Вот такая выходит петрушка.
Капитолина враждебно покраснела.
– Вот вам и секрет. А вы беспокоились… беспокоились, что вас оставят без секрета.
– Какие уж там беспокойства… – Шарфик спланировал и улегся ему на колени, и больше он дуть не стал.
Вместо этого поднял на нее глаза с невысказанным вопросом.
– Ах, вам не хватает беспокойства. В таком случае я вас обрадую. Там, в соседнем купе сейчас обыскивают ваш портфель. Вернее, наш портфель, – произнесла она так, словно выделенное голосом слово было ответом на его вопрос.
– Кто обыскивает? Зачем? – Морошкин почему-то смутился и тоже враждебно покраснел.
– Это уж я не знаю. – Капитолина усомнилась в своих знаниях, поскольку он слишком уж о многом ее спрашивал. – Наверное, наши милые попутчики. Обыскивают просто так. Из любопытства. А может быть, и они, сердешные, не могут без вас жить. Не могут так же, как и я.
Клацнула
В соседнем купе и впрямь производился если и не обыск, то таможенный досмотр.
Началось с того, что за окном сверкнуло зловещей фосфорной спичкой, как сверкают уже не дальние зарницы, а ослепительные молнии – здесь, над самой головой, и вагон потряс адский грохот, словно он разломился пополам. Небо хрястнуло, будто вспоротый дерматин, и с оглушительным треском разорвалось надвое по невидимому шву. Хлынул ливень. Залитые стекла побелели нездешней белизной.
Поезд еще некоторое время рвался вперед сквозь отвесную стену дождя, но затем стал сбавлять ход и остановился. Замер. В вагоне погас свет, и упала кромешная тьма. Все проснулись. Дети заплакали.
Боб пощелкал выключателем настенного фонарика у себя наверху и, убедившись, что от него нет никакого прока, произнес:
– Вероятно, где-то повредило провод и в сети упало напряжение. Так бывает во время грозы. Однажды мы ехали в Коктебель…
– Заткнись, – сказала жена, больше всего на свете боявшаяся грозы и почему-то считавшая, что пустая болтовня притягивает молнии, в том числе и шаровые.
– Уже заткнулся… – Боб изобразил монастырское послушание, помолчал некоторое время, достаточное для того, чтобы согласие замолкнуть дало ему законное право наконец все же что-нибудь изречь – пусть даже для собственного удовольствия: – Э-э… м-м-м…
– Ты что – глухой? Заткнись, тебе говорят!
– Я нем как рыба. – Он довольствовался возможностью словесно обозначить свою немоту. – А ты, мне кажется, боишься. Дрожишь как осиновый кол.
– Осиновый кол вбивают в могилу колдуна.
– Извини, оговорился. Ну тогда осиновый лист…
Жанна ничего не ответила – только про себя выругалась.
– Боишься, боишься, – поддразнивал Бобэоби.
– Ну?.. – Она напомнила ему об обещании замолкнуть.
Боб решил показать свой гонор, пользуясь тем, что он такой храбрец и ее страхи ему неведомы.
– Не погоняй. Не запрягала.
– Тебе что – расцарапать физию? – Жанна с интересом разглядывала свои ногти. – Так я могу…
Он мигом сник, из чего следовало, что у него был печальный опыт – ходить с расцарапанной физией. Но при этом решил все же потребовать некоей сатисфакции:
– Позволь тебе напомнить, что у меня не физия, как ты выразилась, а лицо, причем по-своему привлекательное. Даже красивое. По мне, между прочим, бабы сохнут.
– Лучше бы ты сам засох.
Он всем своим видом изобразил усыхание проклятой смоковницы, о которой где-то когда-то слышал, а может быть, даже и читал, но забыл.
– Вот, пожалуйста… скрюченные ветки. – Боб скривил, нелепо вывернул и вытянул перед собой руки, призванные уподобиться ветвям смоковницы.
– Дурак… – Жанна плюнула бы с досады, если бы нашла подходящее место.
– Добролюбов, похож я на смоковницу? – обратился он к темноте, примерно соответствовавшей местопребыванию попутчика на его верхней полке.
– Каждому дозволяется найти себя в Евангелии, – отозвался из темноты Добролюбов.
– Ах, это Евангелие! То-то, я смотрю, что-то знакомое. – Боб воспользовался случаем, чтобы намекнуть на свое знакомство с Евангелием, и этим вынудил себя же признаться: – До чего же скучно, господа присяжные! Мне скучно… скучно… Этак простоим еще часа два, пока вызовут ремонтную бригаду, заменят оборванный провод, включат свет. Чем бы заняться, а? Чем бы этаким заняться?
– У тебя есть занятие – выполнить обещанное, – напомнила Жанна об обещании, данном в тамбуре вагона. – Темнота этому способствует…
– А что я обещал? Ах, это… но они там вдвоем, голубки. Воркуют. А посему это подождет, а мы пока… – Он с трудом разглядел в темноте на нижней полке портфель, оставленный Морошкиным. – О! Однако надо бы таможенной и пограничной службе поинтересоваться, что там, в этом портфеле.
Боб спрыгнул со своей полки.
– Это чужое. Не трогай.
– Для таможенной службы разрешен доступ. – Он раскрыл портфель, достал капсулу и поднял ее на ладони до уровня глаз. – Какой занятный предмет! Хотел бы я знать, что в нем. – Боб попробовал отвинтить крышку. – Не отвинчивается.
– Верни туда, откуда взял. – Жанна клацнула зубами: на языке лицевой жестикуляции это могло означать многое, в том числе и то, что она чертовски мила, непредсказуема и способна выкинуть любую штуку – даже укусить того, кто рискнет ее не послушаться.
– Слушаюсь.
В это время зажегся свет.
– Однако как быстро они управились. Просто чудеса. – Бобэоби тер глаза, ослепленные внезапным ярким светом.
В это время вошел Герман Прохорович и первым делом посмотрел на свой портфель.
– Я говорю, как быстро они управились, – подольстился Боб, заискивая перед тем, кому он мог внушить подозрение.
– Проводник сказал, что ремонтная бригада еще не прибыла.
– Откуда же свет?
– А вы не догадываетесь?
– Ни ухом ни рылом, – сказал Боб, не смущаясь грубости сказанного и тонким намеком напоминая кому-то из присутствующих, что ему после смерти, как голодному духу… обещано свиное рыло.
– Вообще-то, свет с Востока, как принято считать. – Морошкин заглянул в портфель, чтобы проверить, на месте ли капсула. – К тому же с нами в поезде едет Его Святейшество Далай-лама.
– Так это ему мы обязаны починкой? – Боб выразил почтительное удивление по поводу того, что могущество Далай-ламы распространяется даже на такую область, как починка электричества.
– Я лишь излагаю факты. Выводы делайте сами. И вообще мне с вами становится скучно, – сказал Морошкин, не догадываясь, что до него кто-то в купе уже жаловался на скуку.
– Факты – дело хорошее. А где же ваша спутница, позвольте спросить?
– У себя в купе.
– Они часом не скучают?
– Не знаю. Думаю, что нет. – Германа Прохоровича начинал раздражать этот балаган.
– Все-таки я хотел бы выяснить этот факт, – фиглярствовал Боб. – Факты – они ведь тоже нуждаются в выяснении, подтверждении и так далее.
– Исчезни же ты наконец! – рявкнула Жанна, после чего Боба как ветром сдуло из купе.
Связь
– Все-таки вы меня расстроили с этим свиным рылом, – сказала Жанна так, словно на самом деле хотела сказать нечто совсем другое, но не говорила, пока для этого не наступил благоприятный момент. – Жуткое дело – эти ваши голодные духи.
– Почему же мои? Я лишь пересказываю то, что слышал от сына. Он о них знал гораздо больше и, по-моему, даже знался с ними.
– Это как же?
– А вот так… По-свойски, – сказал Морошкин, словно этим что-то объясняя, впрочем не совсем понятное ему самому. – Это я для красного словца.
– Занятно. И что же советует ваш сын кандидатам… но только не в члены Политбюро, а в голодные духи? Впрочем, это одно и то же. – Собственная шуточка Жанну развеселила и в то же время заставила опасливо оглядеться по сторонам и постучать костяшками пальцев по вагонному столику. – Микрофон выключен, микрофон выключен, – произнесла она, как диспетчер, отвечающий за подключку микрофонов, и вернулась к разговору о голодных духах: – Ведь туда не сразу принимают, а, так сказать, выдерживают…
– Мой сын советовал не портить себе карму. Тогда все будет в порядке.
– Все будет в ажуре, – поправила Жанна, используя более понятное для нее слово. – Я слышала, что есть такие ясновидящие – ну, вроде этой самой Джуны, которые прозревают, кем мы были в прошлых жизнях, и могут исправить нашу карму. – Жанна с нетерпением поглядывала на Добролюбова, не зная, как намекнуть ему, чтобы он хотя бы на время исчез из купе.
– Гоните таких ясновидящих прочь.
– Слышал, Добролюбов? – Жанна переадресовала эти слова Николаю, надеясь, что он воспримет их как призыв оставить их вдвоем с Морошкиным.
– Ну слышал, слышал… – Добролюбов, зевая и придерживая очки, спрыгнул со своей полки.
– Ну почему их, собственно, гнать? Почему? – Прогнав Добролюбова, Жанна немного обиделась за своих ясновидящих. – Чем они провинились?
– Потому что это мошенники и шарлатаны.
– Разве карму нельзя откор… корректи… корректировать? – Она не сразу выговорила (выдавила, как пасту из тюбика) трудное слово.
– Нельзя. Это дело внутреннее. Вмешательства извне оно не терпит. Между прочим, не поспать ли нам немного? А то ночь, проведенная без сна… это потом скажется. Вы в документах на квартиру что-нибудь напутаете и вообще будете клевать носом. – Герман Прохорович, нагнувшись, стал раскатывать на нижней полке матрас.
– Подождите! – взмолилась Жанна. – Я вам не сказала самого главного. Эта квартира могла бы принадлежать нам. Вам и мне…
– Каким это образом?
– А таким… – Жанна постаралась минимальными словесными средствами – с добавлением внушительной мимики – выразить как можно больше.
– Не понимаю. – Он с тоской поглядывал на подушку.
Как переправляющийся через ручей, Жанна словно выискивала вокруг себя подходящий камень, на который можно ступить.
– Вы что – не мужчина? – Ступив на один камень, она искала следующий.
– Ну, допустим, я мужчина… – Морошкин выпрямился над своим матрасом. – Но, извините меня, я все же хочу спать.
– Еще успеете выспаться. Разве вам не хотелось бы тайком от жены… – Она выдержала многозначительную паузу. – …Иметь молоденькую?
– Однако вы себе позволяете… Нет у меня жены. Она умерла. Я вдовец. Старый, седой вдовец.
– У вас такая импозантная седина. И вы совсем не старый. Ой! – Жанна запнулась и прижала к губам пальцы двух рук, словно вместо Морошкина увидела перед собой совсем другого человека. – У вас изменился облик! Вы помолодели на двадцать лет!
– Не выдумывайте. Так что же вы мне предлагаете?
Жанна собралась с мыслями, чтобы ответить как можно короче и как можно точнее:
– Связь.
– Надеюсь, не телефонную? Хотя лучше было бы, пожалуй, телефонную…
– Нет, связь по телеграфу. – Она показывала, что умеет ответить шуткой на шутку, хотя обе шутки не из лучших и по крайней мере не слишком уместные.