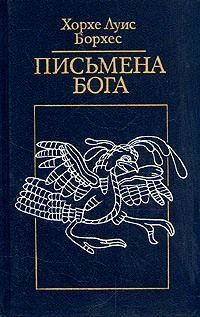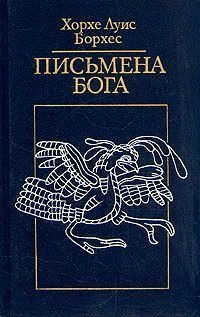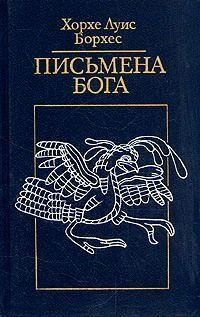Полная версия
Золото тигров. Сокровенная роза. История ночи. Полное собрание поэтических текстов
Смерти Буэнос-Айреса
IЧАКАРИТАПоскольку чрево кладбища Сурбыло переполнено из-за желтой лихорадки;поскольку бездонные трущобы Сурапосеяли смерть по всему Буэнос-Айресуи поскольку Буэнос-Айрес больше не мог видеть эту смерть,тебя раскопалигде-то в глухомани Эль-Оестеза оврагами,за тяжелой древней грязью,в которой вязнут лошади.Там не было ничего, кроме мираи бесчисленных звезд над полями,и поезд покидал Бермехо,забыв о смерти:о мертвых мужчинах с выпавшей бородой и незрячими глазами,о мертвых женщинах без души и очарования.Происки смерти – грязной, как рождение человека, —непрестанно пополняют твои недра, так ты и заселяешьсвои конвентильо душ, подпольную груду костей,которые падают на дно твоей погребенной ночи,словно в морскую пучину,к смерти без бессмертия и чести.Жесткая трава, растущая из неприкаянных останков,врезается в твои бесконечные стены,смысл которых – погибель,а пригород, убежденный в неизбежности смерти,несет кипящий поток жизни к твоим ногампо улицам, обожженным грязью,и наполняется громким звоном утомленных бандонеоновили блеяньем глупых карнавальных рожков.(Вечная ошибка судьбы,моей судьбы – я услышал ее этой ночью, твоей ночью,когда местный паренек играл на гитаре,и гитара говорила то же, что и слова:«И смерть – это жизнь минувшая,а жизнь – это смерти ход,ведь жизнь – это смерть нарядная,что в ярком свете идет».)Кладбищенская обезьяна, Ла-Кемадразнит смерть у твоих ног.Мы изнашиваем и заражаем реальность: 210 телегомрачают позором утро, когда везут в этот полный дыма некропольповседневные вещи, отравленные смертью.Несусветные деревянные купола и кресты – черные фигуры последней шахматной партии – ходят по твоим аллеям,и их убогий лоск оттеняетпозорные лики наших смертей.В твоих строгих границахсмерть бесцветна, пуста, исчислима;она сводится к датам и именам,к смерти на словах.Чакарита,сточная канава нашей родины, Буэнос-Айреса, последний склон,ты переживешь и переумираешь другие районы,ты – лазарет этой смерти, а не иной жизни,я слышал твои заверения в дряхлости, но я тебе не верю,потому что сама эта тоскливая мысль – проявление жизни,а одна цветущая роза значит больше всех твоих мраморных плит.IIРЕКОЛЕТАЗдесь смерть исполнена достоинства,здесь смерть горожан скромна,кровными узами сплетены благостный свет,озаряющий колоннаду Сокорро,с пеплом аккуратных жаровен,со сладостью сгущенки в день рождения,с древними династиями соседей.И с ней прекрасно уживаютсятрадиционные сласти и традиционная суровость.Твой лик – это пышные воротаи слепая щедрость раскидистого дерева,и щебетанье птиц, возвещающих о смерти, не ведая, что это такое,и барабанная дробь, пробуждающая священный трепет в груди,на похоронах военных;твоя спина – молчаливые конвентильо Севераи стена казней Росаса.Нация мертвых под мрамором ширится, разлагаясь,они лишены избирательных прав,расчеловечены в сумраке,с тех пор как Мария де лос Долорес Масиель,уругвайское семечко, растущее из сада твоего прямо в небо,уснула – совсем малютка – в этой земле.Но я хочу остановиться на мыслио светлых цветах, твоей благочестивой эпитафии —желтый ковер под акациями,цветы в твоих склепах, выращенные в память о мертвых, —и о причинах их милой и сонной жизнипри страшных останках тех, кого мы любили.Я загадал загадку, но я скажу и ответ:цветы – извечные спутники смерти,поскольку люди всегда непостижимым образом знали,что соседство сонных и милых цветов —это лучшее, что может случиться с мертвыми,ибо цветы не оскорбляют их гордостью жизнии живы не более, чем они.Франсиско Лопесу Мерино
Если ты по собственной воле покрыл себя смертью,если ты решил отказаться от всех рассветов мира,напрасно обращать к тебе отвергнутые слова,обреченные на поражение.Мы можем только сказать:позор цветам, не знавшим, как тебя спасти,бесчестье дню, что позволил тебе застрелиться.Что может противопоставить наш голостому, что уже подтвердили кончина, слезы и мрамор?Но есть такая нежность, которую не умалит никакая смерть:сокровенные, смутные новости, что несет в себе музыка,родина, сводящаяся к смоковнице и колодцу,и притяжение любви, несущее нам оправдание.Я думаю о них, а равно и о том, мой сокрытый друг,что ты сам сотворил себе образ смерти:и знал ты, что девчушку повстречаешь,о которой писал еще в детстве школярским почерком,и захотел раствориться в этом образе, как во сне.И если это правда и, когда время нас покидает,мы познаем осадок вечности, вкус мира,тогда и смерть твоя легка,как те стихи, в которых ты нас вечно ждешь,и сумрак твой тогда не осквернятголоса зовущих друзей.Северный квартал
Это раскрытье секретаиз тех, что хранят по никчемности и невниманью;ни при чем здесь тайны и клятвы,это держат под спудом как раз потому, что не редкость:такое встречается всюду, где есть вечера и люди,и бережется забвеньем – нашим жалким подобьем тайны.Этот квартал в старину был нашим лучшим другом,предметом безумств и попреков, как всё, что любим;и если тот пыл еще жив,то лишь в разрозненных мелочах, которым осталось недолго:в старой милонге, поминающей Пять Углов,во дворике – неистребимой розе между отвесных стенок,в вечно обшарпанной вывеске «Северного Цветка»,в завсегдатаях погребка за картами и гитарой,в закоснелой памяти слепого.Эти осколки и есть наш убогий секрет.Словно что-то незримое стерлось:бестелесная музыка любви.Мы с кварталом теперь чужие.На пузатых балкончиках больше не встретимся с небом.Боязлива обманутая нежность,и звезда над Пятью Углами уже другая.Но беззвучно и вечно —всем, что отнято и недоступно, как всё и всегда на свете:жилковатым навесом эвкалипта,бритвенной плошкой, вобравшей рассвет и закат, —крепнет порука участья и дружелюбья,тайная верность, чье имя сейчас разглашаю:квартал.Пасео-де-Хулио
Клянусь, что я не нарочно вернулся на улицус высоким навесом, словно повторенным в зеркалах,где полно решеток, на которых жарится мясо из Корралеса,где полно проституток, прикрытых одной лишь музыкой.Изувеченный порт без моря, запертый соленый ветер,похмелье, прибивающее к земле: Пасео-де-Хулио,хотя мои воспоминания, давние до нежности, и хранят твой образ,я никогда не чувствовал тебя родиной.О тебе я располагаю только головокружительным незнанием,собственность эта зыбка, как у птиц в небе,но стих мой – это вопрошание и опыт,и я буду верен увиденному.Прозрачная ясность кошмара у подножья других районов,твои кривые зеркала обличают безобразные стороны лиц,твоя ночь, накаленная в борделях, нависает над городом.Ты погибель, создающая мириз отражений и уродств нашего мира;ты страдаешь от хаоса, болеешь нереальностью,и заставляешь ставить на кон жизнь, играя краплеными картами,твой алкоголь порождает драки,твои гадалки читают судьбу по завистливым магическим книгам.Быть может, оттого, что в аду пусто,фауна твоих монстров – напрочь фальшива,а сирена на этом плакате – мертва и сделана из воска?В тебе есть ужасающая невинностьпокорности, рассвета, знания,неочищенного духа, стертогобегом дней,который вылинял от яркого света, утратил себяи жаждет лишь текущего и современного, как и любой старик.Быть может, за стенами моего пригорода громоздкие телеги,воздев оси горе, молятся невозможным богам железа и пыли,но каким богам, каким идолам поклоняешься ты, Пасео-де-Хулио?Твоя жизнь торгуется со смертью,и всякое счастье – уже потому, что оно есть, – тебе противно.Создатель
(1960)
Леопольдо Лугонесу
Гул площади остается позади, я вхожу в библиотеку. Кожей чувствую тяжесть книг, безмятежный мир порядка, высушенное, чудом сохраненное время. Слева и справа, в магическом круге снов наяву, на секунду обрисовываются лица читателей под кропотливыми лампами, как сказал бы латинизирующий Мильтон. Вспоминаю, что уже вспоминал здесь однажды эту фигуру, а кроме того – другое ловящее их абрис выражение из «Календаря», «верблюд безводный», и, наконец, гекзаметр «Энеиды», взнуздавший и подчинивший себе тот же троп:
Ibant obscuri sola sub nocte per umbram[7].Размышления обрываются у дверей его кабинета. Вхожу, мы обмениваемся условными теплыми фразами, и вот я дарю ему эту книгу. Насколько знаю, он следил за мной не без приязни и порадовался бы, зайди я порадовать его чем-то сделанным. Этого не случилось, но сейчас он перелистывает томик и одобрительно пробует на слух ту или иную строку, то ли узнав в ней собственный голос, то ли различив за ущербным исполнением здравую мысль.
Тут мой сон исчезает, как вода в воде. За стенами – улица Мехико, а не прежняя Родригес Пенья, и Лугонес давным-давно, еще в начале тридцать восьмого, покончил счеты с жизнью. Все это выдумали моя самонадеянность и тоска. Верно (думаю я), но завтра наступит мой черед, наши времена сольются, даты затеряются среди символов, и потому я не слишком грешу против истины, представляя, будто преподнес ему эту книгу, а он ее принял.
Х. Л. Б.Буэнос-Айрес, 9 августа 1960 г.О дарах
Укором и слезой не опорочуТот высший смысл и тот сарказм глубокий,С каким неподражаемые богиДоверили мне книги вместе с ночью,Отдав библиотеку во владеньеГлазам, что в силах выхватить пороюИз всех книгохранилищ сновиденьяЛишь бред строки, уступленной зареюТруду и пылу. Не для них дневныеСиянья, развернувшие в избыткеСтраницы, недоступные, как свитки,Что испепелены в Александрии.К плодам и водам (вспоминают греки)Тянулся понапрасну царь в Аиде.Зачем тревожу, выхода не видя,Всю высь и глубь слепой библиотеки?Твердыня словарей, энциклопедий,Метафор, космографий, космогоний,Былых династий и чужих наследийВздымается, но я в ней посторонний.В пустынной тьме дорогу проверяя,Крадется с палкой призрак поседелый —Я, представлявший райские пределыБиблиотекой без конца и края.«Случайность» – не годящееся словоДля воли, наделившей здесь кого-тоПотемками и книгами без счетаТаким же тусклым вечером былого.И, медленно минуя коридоры,Порою чувствую в священном страхе,Что я – другой, скончавшийся, которыйТаким же шагом брел в таком же мраке.Кто пишет это буквами моимиОт многих «я» и от единой тени?И так ли важно, чье он носит имя,Когда всеобще бремя отчужденья?Груссак ли, Борхес ли, в благоговеньеСлежу за этой зыбящейся мглою —За миром, полускраденным золою,Похожею на сон и на забвенье.Песочные часы
Неудивительно, что резкой тенью,В погожий день пролегшей от колонны,Или водой реки, чей бег бессонныйЭфесца донимал как наважденье,Мы мерим время: сходны с ним и рокомДневная тень, что реет легче дыма,И незаметный, но неумолимыйМаршрут, прокладываемый потоком.Но сколько ими время вы ни мерьте,Есть у пустынь материя другая,Что, с твердостью воздушность сочетая,Подходит мерить время в царстве смерти.Отсюда – принадлежность аллегорийС картинок, поминающих о каре:Тот инструмент, что старый антикварийЗасунет в угол, где лежат в разореПобитый коник, выпавшие звеньяЦепи, тупая сабля, помутнелыйЗа годы телескоп, кальян и целыйМир случая, и тлена, и забвенья.Кто не замрет при виде той мензурыЗловещей, что с косою сжата вместеДесницею Господнего возмездьяИ с Дюреровой нам грозит гравюры?Из конуса, который запрокинут,Песок сквозь горло бережно сочится,Пока, струясь, крупица за крупицейВолною золотою не застынут.Люблю смотреть, как струйкою сухоюСкользит песок, чтобы, почти в полете,Воронкою помчать в круговоротеС поспешностью, уже совсем людскою.Песчинки убегают в бесконечность,Одни и те же, сколько б ни стекали:Так за твоей отрадой и печальюПокоится нетронутая вечность.Я, по сравненью с этими часами,Эфемерида. Без конца и краяБежит песок, на миг не замирая,Но вместе с ним мы убываем сами.Все мировое время в струйке этойЯ вижу: череду веков за гранью,Что в зеркалах таит воспоминанье,И тех, что смыла колдовская Лета.Огонь и дым, рассветы и закаты,Рим, Карфаген, могила на могиле,И Симон Маг, и те семь футов пыли,Что сакс норвежцу обещал когда-то, —Все промелькнет и струйкой неустаннойБесчисленных песчинок поглотится,И – времени случайная частица —Как время, зыбкий, я за ними кану.Шахматы
IВ глухом углу до самого рассветаСидят два игрока, забыв про сон.И каждый лишь доской заворожен,Где борются неистово два цвета.Неистовость таинственная этаЕсть формы порожденье: резок слон,Ладья огромна, ферзь вооружен,А пешка грозным воином одета.Но коли игроки и встанут с местИ время их пожрет, точнее – съест,Ничто прервать не сможет ритуала.Однажды воспылал Восток войной,И ныне поле битвы – шар земной.И нет конца игре, лишь есть начало.IIКоварна пешка, слаб король, жестокВсевластный ферзь – и все готовы к бою,Что ищут и ведут между собоюНа черно-белом полотне дорог.Не ведают они, что лишь игрокВладеет безраздельно их судьбоюИ подчиняет властною рукоюИх волю и отмеренный им срок.А равно сам игрок зажат в тиски(Как говорил Омар) другой доски:Где ночь черна, а день блистает светом.Игрок играет, Бог играет им.Но кто стоит над Господом самимИ над его божественным сюжетом?Зеркала
Я, всех зеркал бежавший от рожденья:И ясной амальгамы, за которой —Начала и концы того простора,Где обитают только отраженья;И призрачной воды, настолько схожейС глубокой синевою небосклона,То птицей на лету пересеченной,То зарябившей от внезапной дрожи;И лака, чья поверхность неживаяТуманится то мрамором, то розой,Которые истаивают грезой,По молчаливой глади проплывая, —За столько лет словами и деламиНемало утрудивший мир подлунный,Готов спросить, какой игрой фортуныВнушен мне ужас перед зеркалами?Металл ли беглым отсветом змеитсяИли каоба в сумраке багряномСтирает притаившимся туманомОбличье сновиденья и сновидца, —Они повсюду, ставшие судьбоюОрудия старинного заклятья —Плодить подобья, словно акт зачатья,Всегда на страже и везде с тобою.Приумножая мир и продлевая,Манят головоломной паутиной;Бывает, вечерами их глубиныТуманит вздохом тень, еще живая.Они – повсюду. Их зрачок бессменныйИ в спальню пробирается, мешаяБыть одному. Здесь кто-то есть – чужаяТень со своею затаенной сценой.Вмещает все зеркальный мир глубокий,Но ничего не помнят те глубины,Где мы читаем – странные раввины! —Наоборот написанные строки.Король на вечер, лицемерный Клавдий,Не думал, что и сам лишь сновиденье,Пока не увидал себя на сцене,Где мим без слов сказал ему о правде.Зеркал и снов у нас в распоряженьеНе счесть, и каждый день в своей банальнойКанве таит иной и нереальныйМир, что сплетают наши отраженья.Бог с тайным умыслом (я понял это)Свои неуловимые строеньяВоздвиг для нас из тьмы и сновиденья,Недостижимого стекла и света.Бог создал сны дарящую во мракеНочь и зеркал немые отраженья,Давая нам понять, что мы – лишь тени.Лишь прах и тлен. Отсюда – наши страхи.Эльвира де Альвеар
Она владела всем, но постепенновсе потеряла. Мы ее узрелив доспехах красоты. Сперва заряи ясный полдень со своей вершиныоткрыли ей прекраснейшие царстваземные. Вечер эти краски стер.Благоволение светил (сплетеньебессчетных и незыблемых причин)дало ей денег, властных над пространством,как сказочный ковер, привычку путатьжеланье с обладаньем, дар стиха,что обращает подлинные мукив далекий ропот, музыку и символ;ей страсть была дана, кипенье крови,пролитой под Итусайнго́, и тяжестьвенков лавро́вых, радость потерятьсяв реке времен (река и лабиринт)и в угасанье красок предвечерних.Она всего лишилась. Лишь одноосталось с ней: высокая учтивостьее вела до завершенья дня,уже за гранью бреда и заката,почти по-ангельски. Лицо Эльвирымне навсегда запомнится улыбкой,так было в первый и в последний раз.Сусана Сока
Любила наблюдать, раздумчива, тиха,Вечерние расплывчатые тени,Следить мелодии хитросплетенье,Жить каверзной гармонией стиха.Не из карминовых основ банальныхЕе судьба изящно сплетена:Мерцают серые полутонаВ регистре различений минимальных.В лукавый лабиринт ступить не смея,Извне бросала любопытный взглядНа толпы, что снуют среди оград,В неисчислимых зеркалах тускнея.Но боги, не вступающие в игры,Ее предали огненному тигру.Луна
Не помню, где читал я, что в туманномПрошедшем, когда столько совершалось,Присочинялось и воображалось,Задался некто необъятным планом —Все мироздание вместить до точкиВ единый том и, тяжело и многоТрудясь над книгой, подошел к итогуИ шлифовал слова последней строчки.Но только по случайности, из темиВдруг выхватив глазами закругленныйРожок луны, он понял, посрамленный,Что позабыл луну в своей поэме.Пусть выдуман рассказ, но из былогоОн нам доносит что-то вроде притчиО том, как безнадежен наш обычайСвою судьбу разменивать на слово.Суть ускользает. Этой потайноюУщербностью отмечена любаяИстория, увы, не исключаяИ всех моих перипетий с луною.Где в первый раз я видел диск чеканный?Не помню. Может, в прежнем воплощеньеИз греческого старого ученья?Во дворике у смоквы и фонтана?Есть в жизни среди многого, что было,Часы других отрадней и роднее, —Таков был вечер, когда вместе с неюСмотрели мы на общее светило.Но ярче виденного въяве светаОгонь стихов: не знавшая пощадыТа dragon moon из колдовской балладыИ месяц, кровеневший у Кеведо.Луна была кровавою и алойИ в Иоанновом повествованье —Той книге ужаса и ликованья,Но все же чаще серебром сияла.Оставил Пифагор своей рукоюПосланье кровью на зеркальной глади,А прочитали (по преданью), глядяВ луну, как будто в зеркало другое.Все злее и громадней год от годаВолк, скрывшийся за чащею стальною,Чтоб наконец расправиться с луноюВ заветный час последнего восхода.(Об этой тайне помнит Север вещий,И в тот же страшный день светил померкшихОпустошит моря нечеловечийКорабль, что слажен из ногтей умерших.)В Женеве или Цюрихе, к поэтамПричисленный судьбой, без промедленьяЯ принялся искать определеньяЛуны, себя измучив тем обетом.Трудясь без отдыха, как все вначале,Я истощал реестрик небогатый,Боясь, что у Лугонеса когда-тоЯнтарь или песок уже мелькали.Из кости, снега (и другого сора)Сменялись луны, освещая строки,Которые, конечно же, в итогеТак и не удостоились набора.Мне чудилось: поэт между живыми —Адам, что с несравненною свободойДарит вещам земного обиходаЕдинственное подлинное имя.От Ариоста я узнал чуть позже,Что на Луне есть все, чему возвратаНет, – канувшее время, сны, утратыИ обретенья (что одно и то же).Я различал трехликую Диану —Итог Аполлодорова урока;Гюго дарил мне серп златочеканный,Один ирландец – черный символ рока.Пока же, наклонясь над этой бездной,Вылавливал я лу́ны мифологий,Я мог увидеть, вставши на пороге,Ежевечерний диск луны небесной.Теперь я знаю: есть одно земноеИ ей лишь подобающее имя.Разгадка в том, чтоб, не томясь другими,Смиренно называть ее луною.И не перебирая под рукоюМетафоры, одна другой неверней,Гляжусь в таинственный, ежевечернийДиск, не запятнанный моей строкою.Вещь, слово ли, луна – один из знаковВ запутанном Писании вселенной,Куда включен любой земной и бренныйУдел, неповторим и одинаков.Она – всего лишь символ меж иными,Судьбой ли, волей данный человеку,Который только по скончаньи векаНапишет свое подлинное имя.Дождь
Яснеют очертания двора,Где дождь проходит, морося над садом.Или прошел?.. В сырые вечераМинувшее родней всего, что рядом.С ненастьем возвращается пора,Когда завороженным нашим взглядамТо, что зовется «розой», мнилось кладомИ явь была, как праздники, пестра.Вот за окном, которое все мглистей,Дождинками обласканные кистиЧернеют у далекого крыльцаНа сгинувшей окраине. И сноваЯ слышу голос моего живого,Вернувшегося моего отца.К портрету капитана из войск Кромвеля
Не овладеть твердыней крепостноюВнимающему горней литургии.Другие зори (и века другие)Пронзает взгляд, воспитанный войною.Тверда рука, застыв на рукоятке.В зеленых долах – кровь и рокот боя.Британия во мгле перед тобою,Сиянье славы, конь и век твой краткий.Мой капитан, труды бесследней дыма.Назначен срок и рвению, и латам,И всем нам, исчезающим с закатом.Все кончено и впредь необратимо.Сталь твоего врага давно истлела.Ты тоже пленник своего удела.Старинному поэту
Пустынными кастильскими полямиПроходишь ты и, погружен в туманныйИ неотступный стих из Иоанна,Почти не видишь, как тускнеет пламяЗакатное. Бредовый свет мутится,И от Востока дымно и кровавоГрядет луна, как скорая расправаЕго неукоснительной десницы.Ты смотришь на нее. Из давних былейВдруг что-то поднимается и сноваВ ничто уходит. И, седоголовый,Ты вновь сникаешь и бредешь разбито,Так и не вспомнив стих свой позабытый:«И кровь луны – словами на могиле».Другой тигр
And the craft that createth a semblance.
Morris, «Sigurd the Volsung»[8] (1876)Мне снится тигр. Ложится полумракНа кропотливую библиотекуИ раздвигает полки и столы:Безгрешный, мощный, юный и кровавый,Вот он, бредущий лесом и зарей,След оставляя на зыбучей кромкеРеки, чьего названья не слыхал(Он ни имен не знает, ни былого,Ни будущего – только этот миг).Он одолеет дикие просторыИ различит в пьянящем лабиринтеПахучих трав дыхание зариИ несравненный запах оленины.Я вижу сквозь бамбуковый узор —Узор на шкуре и костяк под этимСокровищем, ходящим ходуном.Но понапрасну линзы океановСменяются пустынями земли:С далекой улицы большого портаАмерики я исподволь слежуЗа полосатым тигром гангских плавней.Во сне смеркается, и понимаю,Что хищник, вызванный моей строкой, —Сплетенье символов и наваждений,Простой набор литературных троповИ энциклопедических картинок,А не зловещий, неизбежный перл,Что под луной и солнцем исполняетВ Бенгалии и на Суматре свойОбряд любви, дремоты и кончины.И против тигра символов встаетЖивой, гудящий колокольной кровьюИ расправляющийся с бычьим стадомСегодня, в этот августовский день,Пересекая луговину мернымВидением, но только упомянешьИли представишь этот обиход,Как снова тигр – создание искусства,А не идущий луговиной зверь.Еще попытка. Думаю, и третийОстанется всего лишь порожденьемСознания, конструкцией из слов,А головокружительного тигра,Вне мифов рыщущего по земле,Мне не достигнуть. Может быть. Но что-тоТолкает снова к странному занятьюБез смысла и начала, и опятьПо вечерам ищу другого тигра,Недосягаемого для стиха.Blind Pew[9]
Вдали от моря и сражений – рая,Каким всегда рисуется утрата,Бродила тень ослепшего пирата,Английские проселки вымеряя.Облаян злыми хуторскими псами,Обстрелян метким воинством ребячьим,Он спал растрескавшимся и горячимСном в пропыленной придорожной яме.И знал, что там, где берег блещет златом,Судьба его ждет с сокровенным кладом —Отрадой в беспросветной круговерти.Так и тебя в краю, что блещет златом,Судьба ждет с тем же неразменным кладомБезмерной и неотвратимой смерти.Напоминание о тени тысяча восемьсот девяностых годов
Прах. Лишь клинок Мураньи. Лишь размытыйЗакат над выцветшею стариною.Не мог я видеть этого бандита,Чья тень с закатом вновь передо мною.Палермо, невысокий той порою,Венчался канареечным порталомТюрьмы. И по отчаянным кварталамБродил клинок, пугающий игрою.Клинок. Лица уже за дымкой серойКак нет. И от наемника отваги,Который ей служил такою верой,Остались тень и беглый блеск навахи.Пятная мрамор, это начертаньеНе троньте, времена: «Хуан Муранья».Напоминание о смерти полковника Франсиско Борхеса (1833–1874)
Он видится мне конным той заветнойПорой, когда искал своей кончины:Из всех часов, соткавших жизнь мужчины,Пребудет этот – горький и победный.Плывут, отсвечивая белизною,Скакун и пончо. Залегла в засадеПогибель. Движется с тоской во взглядеФрансиско Борхес пустошью ночною.Вокруг – винтовочное грохотанье,Перед глазами – пампа без предела, —Все, что сошлось и стало жизнью целой:Он на своем привычном поле брани.Тень высится в эпическом покое,Уже не досягаема строкою.In memoriam A. R.[10]
Законы ль строгие, слепое ль приключенье —Чем бы ни правился вселенский этот сон —Схлестнулись так, что я попал в полонАльфонсо Рейеса упругого ученья.Неведомо такое никомуИскусство – ни Улиссу, ни Синдбаду —И видеть в смене городов отраду,И верным оставаться одному.А если память свой жестокий дротВонзит – из неподатливых пластинПоэт нам сплавит ряд александринИли элегию печальную скует.В трудах, как и любому человеку,Ему надежда помогала жить:Строкой, которую не позабыть,Вернуть кастильский к Золотому веку.Оставив Сидову мускулатуруИ толпы, крадучись несущие свой крест,Преследовал до самых злачных местНеуловимую литературу.Пяти извилистых садов МариноИзведал прелесть, но, ошеломленБессмертной сутью, преклонился онПеред труда божественной рутиной.И да, в сады иные путь держал,Где сам Порфирий размышлял упорно,И там, меж бреда, перед бездной черной,Восставил древо Целей и Начал.Да, Провиденье, вечная загадка,От скупости своей и от щедротКому дугу, кому сегмент дает,Тебе же – всю окружность без остатка.То радость, то печаль ища отважноЗа переплетами несчетных книг,Как Бог Эриугены, ты постигНауку сразу стать никем и каждым.Чеканность роз, сияющий простор —Твой стиль, его неторною дорогой,Ликуя, вырвалась к сраженьям БогаКровь предков, их воинственный задор.Среди каких он нынче испытаний?Глядит ли ужаснувшийся ЭдипНа Сфинкс, на непонятный Архетип,Недвижный Архетип Лица иль Длани?Или, поддавшись инобытиюВслед Сведенборгу, видит пред собойМир, ярче и сложней, чем мир земной,Небес высокую галиматью?Или, как в тех империях из лака,Эбеновых, восставит память въявеСвой личный Рай, и будет жить во славеДругая Мексика, и в ней – Куэрнавака.Лишь Богу ведомо, какой судьба сулитНам свет предвечный за пределом дня.А я – на улицах. И от меняСекрет посмертья все еще сокрыт.Одно лишь знаю: вопреки препонам,Куда б его ни вынесла волна,Альфонсо Рейес посвятит сполнаСебя иным загадкам и законам.Покуда слышится рукоплесканье,Покуда клич победный не затих,Не оскверню своей слезою стих,Любовно вписанный в воспоминанье.