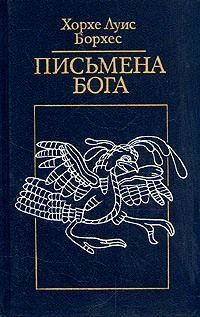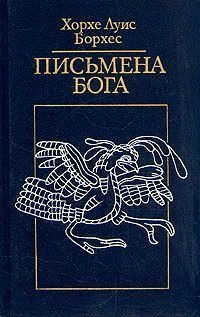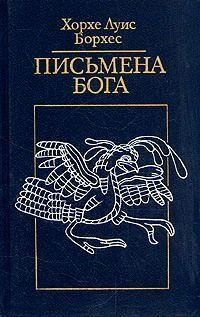Золото тигров. Сокровенная роза. История ночи. Полное собрание поэтических текстов

Полная версия
Золото тигров. Сокровенная роза. История ночи. Полное собрание поэтических текстов
Жанр: зарубежная поэзиязарубежная классикастихи и поэзиялитература 20 векасборники стихотворенийфилософская поэзияклассическая поэзиясерьезное чтениеcтихи, поэзияинтеллектуальная поэзия
Язык: Русский
Год издания: 1995
Добавлена:
Серия «Иностранная литература. Большие книги»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу