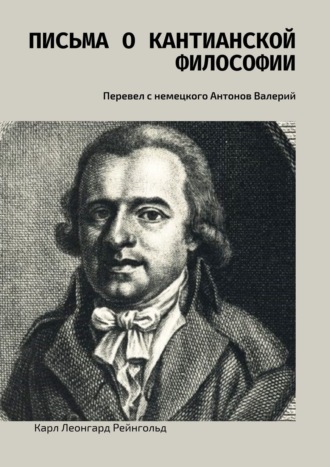
Полная версия
Письма о кантовской философии. Перевел с немецкого Антонов Валерий
Какая похвала философии Канта, что она путем исследования, исчерпавшего все глубины спекулятивной философии, обосновала и подтвердила то самое основание убеждения в существовании Бога, которое история всех времен и народов считает самым древним, самым общим и самым действенным; и что она, наконец, не только сделала вероятным, но и строго доказала мудрое провидение, которое в вопросе, одинаково важном для всех людей, не могло предоставить пониманию, сформированному случайными обстоятельствами и менее образованных людей, ничего, кроме того, что доступно всем!
Из того, что было сказано до сих пор, достаточно ясно, что известный спор между Якоби и Мендельсоном, который вы, дорогой друг, нашли таким тревожным, по крайней мере, в той мере, в какой он касается основания убеждения в существовании Бога, уже был решен за несколько лет до того, как он действительно разгорелся. Мендельсон деликатно намекает в предисловии к «Morgenstunden»: «что он знает трубы всепобеждающего Канта только по неадекватным сообщениям своих друзей или по ученым рецензиям, которые сами гораздо более поучительны»; и Якоби в своих рассуждениях о вере, которую он считает формой убеждения, основанной на доказательствах, ведущей к вере в существование Бога, цитирует «Критику чистого разума» таким образом, который, если я понял его правильно, показывает, по крайней мере, столь же очевидно, что он еще не понял ее до конца, как и то, что он ее читал.
Если бы, однако, Мендельсону не помешали изучить «Критику чистого разума» особенные обстоятельства его здоровья, мы, вероятно, были бы лишены сочинения, которое с редкой ясностью развивает метафизические доказательства-иллюзии из их основных понятий, представляет их в самой сильной возможной форме и стремится усилить их новыми; короче говоря, представляет весь вопрос догматического теизма с тем светлым порядком, тщательностью и точностью, которые должны так облегчить работу «Критики чистого разума» и ускорить окончание спора, ведущегося перед ее трибуналом. Если бы, однако, Якоби в полной мере усвоил мнение Канта, мы, возможно, не получили бы прекрасного мастерского исследования системы Спинозы, а вместе с ним и заодно превосходного изложения и заострения атеистического доказательства, к опровержению которого теперь так же призывает «Критика чистого разума».
Если, как утверждает автор известных «Результатов» философии Якоби и Мендельсона (который, по собственному заверению Якоби, усвоил мнение Якоби полностью и снизу-вверх), именно незнание духа Якоби заставило Мендельсона принять чувственную веру Якоби за теологическую и ортодоксальную: то, похоже, не менее незнание духа Канта заставило Якоби спутать свою историческую веру с философской, обоснованной в «Критике чистого разума», и подумать, что Кант шесть лет учил тому же, что и он. По тому, как Якоби до сих пор объяснял свою веру, Мендельсону вполне простительно было получить представление, что он рассматривает ее как нечто, не сильно отличающееся от обычной ортодоксии; поскольку, с другой стороны, он вполне мог бы согласовать со своими принципами веру, которую Кант выводит из морального закона, и которая есть не что иное, как предположение существования Бога, которое само по себе непостижимо, но которое было доказано как необходимое на основании чистого разума: «Что касается доктрин о вечных истинах, то не следует принимать никакого другого убеждения, кроме убеждения, основанного на доводах разума».
– Как бы то ни было, однако, спор между Якоби и Мендельсоном заслуживает того, чтобы выявить диалектическую двусмысленность нашей метафизики и привлечь к ней всеобщее внимание. Мендельсон защищал и отстаивал догматический теизм, и, поскольку новые философские турниры были открыты для него как нельзя кстати, считал его единственно доказуемым среди всех других систем. Якоби, напротив, «защищает и отстаивает, философию против философии, атеизм, и, если не будет новых турниров доказательств, позволяет считать его самой последовательной из всех систем». Оба мыслителя нашли основания своих столь противоположных мнений в одной и той же науке – в нашей до сих пор существовавшей метафизике – и изложили их в манере, которая полностью свидетельствует об их общепризнанном философском духе и близком знакомстве с этой наукой. Насколько же, в таком случае, этот странный и поразительный факт должен способствовать доказательствам, с помощью которых «Критика чистого разума» осудила нашу прежнюю метафизику за то, что она непременно должна способствовать противоречивым результатам! Но как сильно он должен побуждать мыслящие умы наших современников прислушаться к предложениям, которые эта самая критика разума сделала для возведения лучшей метафизики.
Пятое письмо
Результат критики разума о необходимой связи между моралью и религией
Подтверждение слуха о том, что публичное чтение «Критики чистого разума» запрещено в одном из немецких университетов, не было бы для меня столь неожиданным, как его опровержение – для вас, мой друг. Чем вам не повод для беспокойства со стороны более чем когда-либо оживленной партии фанатиков, которые хотят, чтобы их убежденность в фундаментальных истинах религии и морали вытекала из любой другой сферы, только не из разума? Я же, доверяющий противоположной и лучшей партии со все возрастающим перевесом, ожидаю именно от последней самого яростного и действенного сопротивления новой философии, не боясь, однако, ее даже в самых сильных ее вспышках.
Если критика разума, утвердив веру в рамках разума, подорвала ее у энтузиастов с обеих сторон, из которых одни вовсе не принимают своей веры от разума, а другие, жаждущие знания, не хотят верить ничему, кроме разума; то, уничтожив все объективные доказательства существования Бога, она вынуждена принять на себя всех просвещенных защитников религии, которые вместе с Мендельсоном считают эти доказательства фундаментальными истинами самой религии или, по крайней мере, согласны с мнением одного бессмертного автора: «Ни один приверженец Божества не должен отвергать ни малейшего основания доказательства, которое несет в себе лишь некоторую силу убеждения». Вы, мой друг, который сами признаете этот изъян, даете мне небольшое доказательство как вашей проницательности, так и беспристрастной любви к истине, прося меня объяснить, а не просто поверить философии Канта на слово в этом вопросе.
Вы спрашиваете в своем последнем письме: «Что выиграет религия от устранения доказательств, которым столь значительное число умов, великих и малых, придают исключительную силу убеждения, и которым религия обязана столь значительной частью своих побед над сомневающимся пристрастием неверующих, и тем престижем, который постепенно приобретается ею даже у самих супранатуралистов в вопросах религии?» – Я полагаю, что могу ответить на это с уверенностью: «Религия, устранив эти доказательства (поскольку это дело взяла на себя философия Канта), приобретает не что иное, как единственное непоколебимое и универсально достоверное основание для своей первой фундаментальной истины, которое посредством разума восстанавливает союз религии и морали, нарушенный христианством лишь на практике, но утвержденный им в самой своей сути». Я надеюсь, что смогу объяснить это к вашему удовлетворению.
Этот союз, возникший в то время, когда разделение между религией и моралью, казалось, достигло высшей степени, является величайшей заслугой христианства, в котором само его существо не может ему отказать; но его друзья не ценят этого достаточно, если у них есть что-то большее, но называют возвышенного основателя его почетным именем спасителя человечества. Иисус Христос застал религию без морали в великих домах своего времени и столкнулся с моралью без религии в философской секте. В соответствии с волей пославшего его, его внимание должно было быть уделено большей части, не пренебрегая меньшей; и религия, к которой имелось более общее расположение и подготовка, должна была стать основой новой моральной культуры, которая должна была соответствовать потребностям как простого человека, так и более просвещенного мыслителя. Его учение, таким образом, устанавливало такую концепцию, к которой с одинаковой легкостью могли примыкать и самые грубые представления, и самые тонкие умозрения людей; и где бы, в соответствии с учением Иисуса, ни утверждалась религия, она должна была нести новую нравственную культуру.
Высшее существо как отец, а человеческий род как его семья – мораль стала ясной даже для самого низкого интеллекта, а религия – близкой для самого хладнокровного философа. Мораль и религия теперь не только примирялись друг с другом, но и объединялись теснейшими узами, согласно которым мораль зависела от религии по крайней мере в той мере, в какой она должна была благодарить последнюю за свое распространение и действенность. Религиозная санкция давала благородным и возвышенным началам морали более общий доступ, который, впрочем, они не нашли бы в грубом и необразованном уме простого человека, и придавала им более живой интерес, без которого они обычно мало действуют на сердце более равнодушного толкователя. Один, таким образом, прощал своих врагов «ради Небесного Отца, который заставляет свое солнце восходить над добрыми и злыми», и тем самым выполнял долг, о существовании которого многие философы-моралисты еще недавно и не мечтали. Другой же, кого философия действительно привела к убеждению в этом долге, теперь нашел в религии, которая заставила его воспринять в себе «Сына всеобщего Отца людей», мотив, который он мог противопоставить своему бунтарству своего сердца.
Таким образом, христианство, в подлинном смысле этого слова, формировало граждан мира, и в этом великом деле оно имело то преимущество перед философией, что ему ни в коем случае не позволялось ограничивать себя, как это делала последняя, только теми классами людей, которым выпал счастливый жребий более высокой культуры. Его действительной целью было и всегда будет: «Сделать нравственные законы разума понятными простому человеку, донести их до сердца мыслителя и подать руку помощи разуму в нравственном воспитании человечества». Таким образом, поскольку далеко не всегда было возможно обосновать положения, на которые философия должна была бы указать, тем более сделать философию излишней или искоренить ее с лица земли, христианство скорее должно было сделать результаты глубоких размышлений мирских мудрецов общим достоянием всех классов, сменить холодный блеск, который эти результаты до сих пор имели в небольшом числе мыслящих умов, на горячую любовь и активное воплощение, и, что тщетно пытался сделать Сократ, – вывести философию из бесплодных областей простых спекуляций и ввести ее в реальный мир.
Я не должен бояться, мой дорогой друг, что вы неправильно оцените христианство по этим штрихам, какими бы идеализированными они ни казались некоторым другим; имейте в виду! В той мере, в какой оно представляет себя через учения и примеры своего основателя беспристрастному глазу исследователя, оно заложило основу для счастливого союза религии и нравственности, и даже посреди всего искажения, которое ему пришлось испытать от суеверия и неверия, никогда полностью не теряло своего благотворного влияния на образование человечества.
Почему я должен говорить здесь о том, что так долго злоупотребляло именем христианства и вытесняло его дух везде, где ему удавалось завладеть его оболочкой, и почему я могу дать ему какое-либо другое имя, кроме того, под которым оно причинило столько зла – ортодоксия? В то время, когда свободная и научная культура разума была утрачена Римской империей и была погребена под обломками ее деспотизма и варварами, это порождение невежества и гордости неоплатонизма обрело ту власть над человеческим разумом, благодаря которой им в последнее время стало так же легко подчинять себе мыслящих людей. Догматы толпы, как фразы испорченной школьной мудрости, непонятные обычному человеку – стали проповедовать как божественные изречения, ставить их на место простых и полезных учений Евангелия и утверждать слепую веру в их букву не только как первую из всех моральных обязанностей, но и как удовлетворительную замену пренебрежению всеми остальными.
В тех самых обстоятельствах, когда ей удалось подавить использование единственной способности, которая возвышает человека до статуса нравственного существа, она снова уничтожила плоды прекрасного союза, который христианство установило между религией и моралью. Она подменила великую и трогательную картину, которую Христос создал о небесном Отце, абстрактным образом, в котором все было непостижимо. Неудивительно, что такая религия стала совершенно безнравственной; тогда как в мифологических фантазиях, которыми язычество развлекало своих богов, было много трогательных и волнующих сердце черт человечества. Теперь человечество оказалось в гораздо худшем положении, чем раньше, когда религия и мораль были разделены. Религия стала санкцией безнравственности, и целые суды, высшие школы, нации теперь решали и совершали под предлогом религии такие злодеяния, примеров которых едва ли можно найти в истории фанатизма до введения христианства.
Разум начал восстанавливаться с возрождением наук; и теперь даже его друзья, казалось, объединились с его врагами, чтобы довести до крайности разделение между религией и моралью. Если последние, во имя Бога, отрицали всякую заслугу у всех поступков, совершенных только из разумных побуждений, то первые искали и находили свою мораль в трудах древних и в своем собственном разуме. Но в той самой пропорции, в которой они начали отличать религию от морали и признавать независимость последней от первой, что было бесспорно с одной стороны, они отделили их друг от друга и стали неверно оценивать связь между ними, которая была не менее бесспорна, с другой стороны. Они стали тем более склонны считать всю религию бесполезной, чем они не напрасно трудились в течение многих лет, чтобы отделить многочисленные и грубые ошибки, которые они впитали с религиозным обучением своей юности, от истинных и благотворных аспектов религии.
Сколько бы разум, с тех пор как протестантская Реформация, по крайней мере в одной половине христианского мира, вернула ему свободное использование своих сил, и особенно с тех пор как он так заметно оправился в последние времена от естественных последствий своего прежнего заключения, ни предпринимал для восстановления союза между религией и моралью, успех его усилий до сих пор был, бесспорно, скорее подготовкой, чем завершением этого великого дела. Кто не знает, что партии ортодоксов, равнодушных к морали разума, и натуралистов (деистов), равнодушных к религии откровения, в настоящее время заняты тем, что запутывают понятия своих современников своим несчастным непониманием! Одни хотят, чтобы мораль была лишь главой теологии, а другие не хотят, чтобы теология была даже главой морали. Первые пытаются сделать всю религию безразличной для своего разума, а вторые – защитить свою религию от всякого разума. Их общее заблуждение, таким образом, состоит в том, что они не видят разницы между религией чистого разума и тем, что относится к христианству, или, что одно и то же, к религии чистого сердца, – подобно тому, как теоретическая доктрина морали относится к практической.
Поэтому создание и распространение прочного основания для основных истин религии, одинаково понятного для философского разума и здравого смысла, является крайне необходимым для воссоединения религии и морали или восстановления христианства в его первоначальной чистоте; точно так же, как создание и распространение чистой морали было крайне необходимым, когда христианство заложило основу для воссоединения религии и морали в самом начале своего существования. Чистая религия в настоящее время является потребностью времени в точно таком же смысле, как и чистая мораль восемнадцать столетий назад; и поскольку в целом мы имеем гораздо больше оснований говорить о чистоте морали, чем о чистоте религии, восстановитель христианства должен использовать более общее расположение к морали в точно такой же пропорции, в какой основатель христианства использовал более общее расположение к религии в свое время; то есть он должен исходить из морали, как Христос исходил из религии. Одним словом, как в то время религия, как один из самых общих и самых действенных импульсов человеческого сердца, должна была быть приведена в движение, чтобы получить доступ к малоизвестной морали, столь противоположной господствующим идеям и обычаям, так и ныне эта же мораль, которая сегодня принадлежит к наиболее определенным, признанным и популярным принципам, должна быть взята за основу всеми, кто хочет внести свою лепту в то, чтобы чистое христианство одержало верх над суеверием и неверием, что искажали его.
Доселе философия оставалась должницей той религии, что утвердила и распространила в мире чувств важнейшие и возвышеннейшие результаты практического разума. Но ныне настало время, когда она может и должна вернуть этот долг, ибо сам разум настоятельно призван защитить основоположения христианства от философских заблуждений, обосновать их перед лицом философских сомнений и утвердить вопреки нарастающим волнам как слепого энтузиазма, так и пагубного равнодушия. Если философия должна сделать для христианства то, что христианство сделало для нравственности, – а именно, подобно тому как христианство вело от религии к нравственности путем сердца, – она должна вести обратно от нравственности к религии путем разума; то есть она должна почерпнуть основания для доказательства непонятой и подвергаемой сомнениям религии из общепризнанных принципов нравственности, точно так же, как христианство почерпало из религии мотивы, которыми оно оживляло и оживляет нравственность в широких массах.
Может ли наша философия доселе похвастаться, что она прояснила необходимую связь между основными понятиями нравственности и религии и дала формулу, которая определяет и легко выражает эту связь? – Правда, по крайней мере, через ту партию, к которой принадлежит большинство публичных учителей, она вывела нравственный закон и его обязательную силу из одной только разумной воли с таким успехом, который явствует уже из того одного, что в наше время лишь изредка, и никогда без предварительного отречения от имени философа, появляется ортодокс, освобождающий атеиста от обязательной силы нравственного закона. Тем самым она сделала основание для познания нравственности независимым от религии и приобрела столь многое, что, конечно, при выведении религии из нравственности можно было бы избежать обычного круга. С другой стороны, однако, она породила предрассудки, объявляющие религию с нравственной точки зрения излишней. Поэтому, чтобы установить необходимую связь между нравственностью и религией, ей следовало бы действительно вывести последнюю из первой.
Здесь ей до сих пор противостояли две главные партии, составляющие почти весь христианский мир, из которых одна основывает свою религию на гиперфизических событиях, а другая – на метафизических умозрениях и, следовательно, обе почерпают основания познания своей религии из принципов, совершенно отличных от принципов нравственного закона. Влияние гиперфизических и метафизических оснований познания религии достаточно очевидно из той огромной путаницы, которая господствует среди понятий обеих сторон об отношении нравственности к религии. Гиперфизики по необходимости принуждают себя предполагать два различных нравственных закона: естественный – от разума, и сверхъестественный – от веры, которая совершенно независима от разума; а метафизик, смотря по тому, считает ли он, что в своих умозрениях нашёл основания за или против существования Бога, либо называет свою нравственность религией, либо отгоняет от неё это название, – то есть либо упраздняет религию в её существенном отличии от нравственности, либо прямо отрицает её, и таким образом в обоих случаях действительно упраздняет её. Некоторые пытались не быть ни метафизиками, ни гиперфизиками, но при этом, сами того не зная, принимали на свой счёт противоречия и тех, и других. Совсем недавно мы видели пример остроумного философского писателя, который осуждал все притязания метафизики, но в то же время не только уступал ей, но и стремился измерить её её же меркой: «Всякий путь демонстрации ведёт к фатализму», – и который не хотел упустить ничего из ортодоксальной, слепой или чудесной веры, но тем не менее основывал религию на вере, которую разум не может дать.
Теперь, если эклектик едва ли может без противоречий объяснить себе связь между религией и нравственностью, если он иногда основывает одно на другом, иногда на третьем, а иногда черпает то и другое из совершенно разных источников, вы, дорогой друг, без сомнения, предупредите меня, чтобы я не вменял это в вину философии. Но я не признаю невиновности вашей подзащитной, пока вы не покажете мне философское сочинение, которое скорее не способствовало, а устранило полное различие между источниками познания религии и нравственности. Или вы назовёте это выведением религии из нравственности: когда так называемые обязанности религии выводятся из нравственного закона, а основание всякой религии, убеждение в существовании и атрибутах Божества, выбирается вне поля практического разума и, более того, заимствуется из науки, которая благодаря двусмысленности своих принципов, с одинаковой лёгкостью доказывающих существование и несуществование Божества, отчасти получает самых горячих приверженцев в вечном споре, отчасти привлекает равнодушие и презрение беспристрастных зрителей? И разве не является именно спорным метафизическое основание познания существования Бога, которое в силу несхожести своего происхождения и доказательств отделяет религию от нравственности? Может ли философ надеяться, что ему удастся отстоять право разума говорить первым в вопросах религии против тех, кто хочет привить ему веру, независимую от разума, если он сам вынужден навязывать своим оппонентам знание, которое не более достоверно в своих основаниях и не более необходимо связано с основаниями нравственности, чем слепая вера, которую оно должно вытеснить?
Итак, чтобы полностью и целиком обосновать религию на нравственности, философия должна была бы, во-первых, вывести основание убеждённости в существовании и атрибутах Божества из принципов нравственного закона; во-вторых, утвердить это нравственное основание познания как единственное. Первое ей до сих пор удавалось не лучше, чем теперь; второе же совершенно невозможно, если только она не устранит одновременно два других недопустимых основания познания и, следовательно, не обнаружит злоупотребление разумом в метафизике так же ясно, как и не отмерит посягательство на права разума в гиперфизике. Поэтому одна половина проблемы, которую наша философия должна решить в деле религии, звучит так: «Показать ничтожность метафизических доказательств не только без ущерба, но и во благо рационального убеждения в существовании и атрибутах Божества».
Мне кажется, я могу с большим основанием утверждать, что до «Критики разума» философия не разрешила эту проблему. Всё, что до сих пор от её имени пускали в ход сверхъестественники, атеистические натуралисты и скептики против метафизических доказательств, наносило удар как по фундаментальной истине самой религии, так и по доказательствам. Поскольку логическая форма этих доказательств, без правильности которой они не обманули бы и наименее мыслящего теиста, стойко противостояла всякой диалектике, возражения переходили прямо к содержанию и тем самым становились фактическими контрдоказательствами, метафизическими доводами от противного, которые все сводились к отрицанию способности разума доказывать существование Бога, поскольку полагали, что в нём есть способность доказывать не-существование Бога. Поучительный спор между Якоби и Мендельсоном также даёт нам пример этого. Я выбираю для этого уже упомянутое предложение, в котором противник метафизических доказательств говорит: «Всякий способ демонстрации ведёт к фатализму». Если это предложение верно, и если все эти пути, ведущие к фатализму (или даже только один из них) философского разума, неизбежны или неопровержимы: тогда противоречие между разумом и верой решено; тогда разум необходимо неверующий, или вера необходимо неразумна; тогда разум разрушает демонстрацией то, что он строит нравственным законом, или, как хочет Якоби, предполагает на свидетельстве истории. Если же, с другой стороны, как предполагает сам этот прекрасный писатель, все фаталистические пути имеют такую природу, что они могут и должны быть признаны разумом как ослепляющие иллюзии: тогда теистические доказательства Мендельсона стоят твёрдо, по крайней мере, в той мере, в какой они, даже сами будучи ослепляющими иллюзиями, не могут быть отменены никакой другой иллюзией. И почему верующий, отталкиваясь от двух произведений иллюзии, одно из которых, казалось бы, противоречит его вере, а другое, напротив, подтверждает её, должен стремиться атаковать только одно из них и щадить другое?
Итак, если метафизические иллюзорные доказательства должны быть опровергнуты не только без ущерба, но и с пользой для нравственного основания познания, это должно быть сделано не с помощью контрдоказательств, а с помощью оснований, которые аннулируют все контрдоказательства, сами по себе столь же хорошие, как и доказательства; с помощью оснований, которые, поскольку они лишают теиста его мнимой защиты, в то же время избавляют его от всякого страха перед не менее мнимым оружием его противников. Более того! Если нравственное основание познания должно быть навеки утверждено в своём предпочтении как единственно достоверное, а разум должен навсегда прекратить своё бесконечное стремление к новым доказательствам (которое также вызывалось лишь простым сомнением в непостижимой невозможности таковых): то основания, которые показывают ничтожность метафизических доказательств за и против существования Бога, должны отвечать не только установленным до сих пор, но и всем возможным доказательствам такого рода, или, скорее, самой их возможности; обстоятельство, о котором нельзя было и помыслить, пока не было доказано на основе общеприменимого принципа, «что разум не обладает способностью знать о существовании или не-существовании объектов, лежащих вне сферы чувственного мира».

