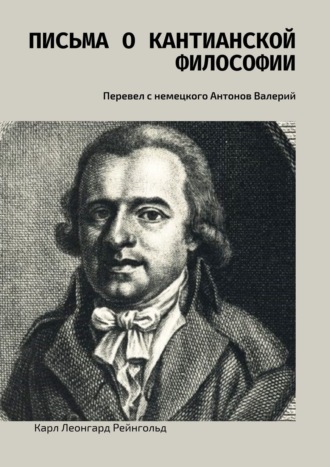
Полная версия
Письма о кантовской философии. Перевел с немецкого Антонов Валерий
Седьмое письме
Об элементах и предшествующем ходе убеждения в основных истинах религии
Критика разума привела доказательства, в обстоятельности которых вы, дорогой друг, со временем сами убедитесь: что теоретическому разуму столь же невозможно доказать бессмертие души, сколь и бытие Бога; что, с другой стороны, практический разум, в силу тех же оснований, по которым он требует признания высшего принципа моральных и природных законов, делает необходимым также и упование на будущую жизнь, в которой моральность и счастье, согласно определению этого высшего принципа, должны пребывать в совершеннейшем соответствии.
Этот результат, содержащий окончательный и навсегда решающий ответ на второй главный вопрос, коим до сих пор занималась наша спекулятивная философия в отношении религии, я рассмотрю подробнее в моем следующем письме. В настоящем же я упоминаю о нем лишь как о примере поразительной плодотворности нравственного основания познания и восхитительной простоты, которую религиозное убеждение обретает благодаря ему. Предполагая правильность вышеизложенного результата, мы получаем не только рациональную систему чистой теологии, которая основывает все учение о Божестве на единственном, первоначальном и непоколебимом принципе разумной веры (Vernunftglaube), о котором шла речь в моем предыдущем письме; но также и истинную, систематическую философию религии, которая охватывает – наряду с собственно теологией и как столь же существенную ее часть – учение о действительности и природе будущей жизни и выводит его из того же самого принципа.
Нам кажется, дорогой друг, что никогда еще спекуляция не была так оправдана перед здравым смыслом, никогда еще суждения последнего не были так согласованы с результатами первой, никогда еще философия и история не были столь единодушны в вопросе столь важном, как в данном случае: когда исследование, чья глубина не имеет примера, равно как и искусство, с каким оно было проведено, вывело высший принцип всей философии религии из природы чистого разума – и этот принцип содержит не больше и не меньше, как формулу, выражающую потребность, которую разум всегда был вынужден предписывать себе.
Если то, в чем все религии, сколь бы ни были они различны, сходились с древнейших времен, извлечь из их мифологических и метафизических оболочек и, по праву, вменить в заслугу здравому человеческому рассудку (sensus communis), то для сей цели останутся именно эти два пункта веры. И если исследовать причину, исходя из которой рассудок, не верящий слепо, мог бы построить это древнее и всеобщее убеждение; причину, по которой философия начала свои первые и древнейшие изыскания с атрибутов Божества и природы будущей жизни; почему существование обоих, намечавшееся в этих изысканиях, нашло столь раннее и всеобщее признание и, пребывая в плачевном состоянии своих мнимых доказательств, сохранилось и распространилось вплоть до сего дня, – то из сказанного следует, что причина сия может заключаться не в чем ином, как в чувстве нравственной необходимости, которое было разложено на ясные понятия «Критикой разума» и возведено в единственное и высшее философское основание познания религии.
Были, вероятно, времена, когда человечество было столь же мало способно к ясному признанию этой необходимости, сколь она была для него необходима, и когда простое ощущение оной порождало то убеждение в двух фундаментальных истинах религии, которое было – гораздо менее озабочено признанием его причин, нежели использованием его последствий для нравственности. Христианство, которое было дано человечеству не иначе как для того, чтобы уверить его в этих благотворных последствиях, поэтому предполагало и продолжает предполагать это убеждение как уже существующее. В намерения благородного основателя не входило реформировать ни философию, ни теологию своего времени. Поэтому в обоих вопросах он предоставил все здравому смыслу и, не вдаваясь в доказательства религии, выделил ее чистейшие и сильнейшие мотивы, поставил их в необходимую связь с моралью и таким образом положил начало той практической чистой религии, которая, благодаря более широкому распространению нравственных понятий и высшему интересу, который разум был вынужден к ним проявить, столь значительно способствовала не только нравственной культуре человечества в целом, но и научной разработке самой морали.
Оба эти неразделимых вида культуры должны были подняться до высокой степени, прежде чем стало возможным и, наконец, даже необходимым возвести религию в ее убедительном основании на ту самую мораль, которая своим становлением и распространением обязана, по крайней мере в немалой степени, мотивам религии. До того, как были прояснены фундаментальные понятия морали, можно было бы поколебать убежденность в основных истинах религии, если бы показали, что она не имеет для себя иных доказательств, кроме доводов моральной необходимости. Христианство, таким образом, не могло установить истинное и нравственное основание познания в большей степени, чем любое иное, и ложное; оно должно было предоставить как установление и развитие первого, так и устранение второго – человеческому разуму, который оно должно было направлять и ускорять своим деятельным влиянием.
В переходный период, то есть в течение долгого времени, когда человеческий дух должен был перейти от смутного чувства к ясному сознанию нравственной необходимости, неизбежны были превратные истолкования этого чувства. Разум на определенной ступени своего развития оказался вынужденным дать отчет в своих убеждениях, вынужден был искать причины истин, которые навязывались ему неизвестно откуда, и принять эти причины, которые некогда были для него так же необходимы, как и сами истины, в той форме, в которой они могли предстать перед ним в его тогдашнем состоянии. Подумайте о природе этих истин. Они в той же мере неспособны к чувственному восприятию, в какой необходимы согласно своим понятиям, в той же мере совершенно недоступны чувствам, в какой неизбежны для разума, в той же мере чужды одной из наших познавательных способностей, в какой тесно сплетены с другой, – непостижимы с одной стороны, постижимы с другой; неразрешимая проблема для разума до его полного самопознания! В своем младенчестве он мог и должен был связывать каждое понятие, лишенное наглядного представления, по мере того как оно приходило в его сознание, непосредственно с опытом. Он мог это делать, ибо до полного развития метафизико-теологических основоположений противоречие между таковым [понятием] и созерцанием, этим существенным условием всякого опыта, либо вообще не было заметно, либо недостаточно бросалось в глаза. Так и должно было быть, ибо как иначе можно было бы удержать понятие без созерцания? Поэтому самые ранние познания о Боге имели исторический источник. Но сколь мало философ может сомневаться в преобладании необузданного воображения над разумом в мифологиях доисторического периода, столь же мало он сможет ошибиться относительно следов метафизических представлений в них и отрицать, что именно из этих, хотя и лишь зарождающихся, понятий разума воображение заимствовало божественность для своих безбожных грез.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



