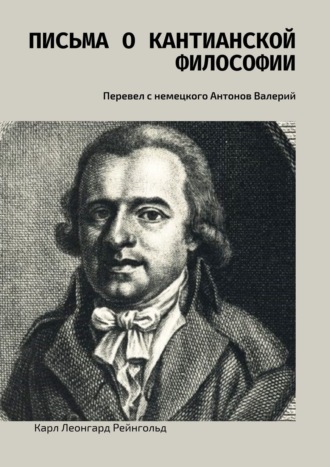
Полная версия
Письма о кантовской философии. Перевел с немецкого Антонов Валерий
Поскольку доказательства, которыми они пытаются обосновать этот упрёк, заимствованы из прежней метафизики и направлены против прежней метафизики, очевидно, что эти авторы смешивают разум с метафизикой и возлагают на первого то, что в действительности следует вменять лишь второй. Их противники, защитники так называемой естественной религии, вынуждены из-за этого упрёка вновь искать общезначимые принципы, которые, как им казалось, они уже давно обрели, и, в конечном счёте, признать, что прежняя форма их убеждений не в полной мере соответствует «форме разума, общей для всех людей», и что они до сих пор приписывали разуму обладание тем, чем в действительности были обязаны лишь метафизике.
Таким образом, всё ближе и ближе подходишь к убеждению, что разум был неправильно оценён обеими сторонами. Как многое ныне соединяется, чтобы сделать эту важную истину ясной для наших современников! Никогда ещё от разума не ожидали одновременно так много и так мало, как в настоящее время.
Идолопоклонство, которое ему воздавали, и презрение, которое ему выказывали, достигли невиданной степени; в то время как преувеличенные похвалы и клевета, с которыми его привыкли встречать, никогда ещё не подвергались столь всеобщим нападкам и столь искусному опровержению. Более разумные приверженцы каждой партии должны, наконец, прийти к мысли искать причину преувеличений, которые они сами допускают в отношении своих единомышленников, в принципах, общих для всей их партии; поскольку даже их, и даже более разумных приверженцев противоположной партии, единодушно упрекают в преувеличенных притязаниях на разум или против него.
С одной стороны, столь же обще и совершенно убеждены, что от разума ожидают слишком многого, а с другой – что от него ожидают слишком мало; иными словами, обе стороны взаимно обвиняют друг друга в неправильной оценке разума. Поскольку каждая сторона должна теперь оправдывать своё понимание разума перед своим противником, каждая видит себя вынужденной приводить доказательства тех оснований, которые до сих пор удовлетворяли лишь её саму и её сторонников, но которые способны вразумить также и её противников. Поэтому каждый должен выйти за пределы тех принципов, которые он до сих пор считал первыми, отыскать те свойства разума, которые он ещё не открыл, и стремиться утвердить своё знание о возможностях и силах разума общезначимым образом – то есть убедительным как для себя, так и для своих оппонентов.
Таким образом, ни одна из спорящих сторон не может оставаться удовлетворённой своими прежними знаниями о разуме, как не могут её удовлетворить и знания её противников; ни одна из них не может оставить всё по-старому, и поэтому необходимость нового исследования способности познания (Vermögen der Erkenntnis) должна, наконец, стать столь же универсально ощущаемой мыслящими умами обеих сторон, сколь обе стороны уже убеждены в том, что разум неправильно оценивается их оппонентами.
Таким образом, проблема: «На что способен разум?» – становится необходимой, подготовленной и поставленной нынешними обстоятельствами. Уже то, что мы покончили со старым прискорбным заблуждением разума, неверно оценивающего самого себя, – которое, как ни неизбежно оно было для человеческого духа на долгом и трудном пути, пройденном им к научному познанию своих возможностей, принадлежит, тем не менее, к числу величайших зол, от которых когда-либо страдало человечество, – было бы немалой заслугой нашего века; непонимание, которое в течение тысячелетий приносило несчастья всем существам в мире, подвергало культурные народы кровавой и бескровной вражде ортодоксии и гетеродоксии, порождало неверие и суеверие, растрачивало энергию стольких прекрасных умов в бесполезных спорах и ссорах и, казалось, всегда сохраняло все свои печальные последствия; – Немалой заслугой нашего века было бы, говорю я, извлечь это недоразумение из тьмы спутанных понятий и тем самым поставить проблему, разрешение которой обещает не что иное, как общепризнанные реальные принципы наших обязанностей и прав в этой жизни, – и общепризнанное основание наших надежд на жизнь грядущую, конец всем философским и теологическим ересям, а в области спекулятивной философии – вечный мир, о котором еще не мечтал Сен-Пьер.
Но что, если бы решение этой великой проблемы было отложено до нашего века, который подходит к концу? Что, если бы большая часть истинных философов согласилась на общеприменимые принципы до того, как она будет полностью завершена в Германии? И что, если эти философы, которые отныне перестали работать друг против друга – не зная об этом или не желая того, – объединенными силами, без какого-либо соглашения, усилятся, чтобы отстаивать универсально значимое в целом? Вряд ли можно было возложить более яркую корону на достойных людей нашего века; и Германия могла бы начать свое высокое призвание, став будущей общеевропейской школой, без более тщательного и целенаправленного начинания.
Я знаю, дорогой друг, что мои надежды должны показаться вам восторженными. Ведь до сих пор я не мог показать вам ничего, кроме нынешней потребности в объекте этих надежд, которая сейчас больше, чем когда-либо. Что вы подумаете о беспристрастности моей философии, когда я скажу вам, что причина, благодаря которой я ожидаю исполнения своих надежд, заключена в одной книге? Конечно, это книга, которая, после того как в течение многих лет ее существование почти не замечалось, в последние годы вызвала больше шума, чем любая другая, привела нашу философскую общественность в необычайное движение и заслужила для своего автора такое осуждение, за которое даже его противники мстят ему неудовольствием и насмешками. Но именно эта книга, по собственному признанию автора и тех, кого он признает своими истинными учениками, не была понята большинством его критиков; большая часть наших знаменитых философских писателей выступила против нее, а некоторые из них даже сейчас заняты тем, что в журналах и библиотеках, созданных главным образом для этой цели, доказывают, что содержание этой книги, в том, что они считают в ней истинным, является старым, а в том, что они считают в ней новым, – отчасти недоказуемо, отчасти противоречиво.
Евангелие чистого разума – глупость для гетеродоксов и соблазн для ортодоксов; и ни в одной книге, за исключением, возможно, одного Апокалипсиса, не было найдено столь разных и столь противоположных вещей. Догматики провозглашают «Критику разума» вылазкой скептика, подрывающего уверенность во всех знаниях, скептики – гордым намерением создать на развалинах прежних систем новый, господствующий догматизм, сверхнатуралисты – уловкой, призванной вытеснить исторические основы религии и утвердить натурализм в отсутствие полемики, – натуралисты [видят в ней] новую поддержку просеивающей философии веры, – материалисты [усматривают] идеалистическое опровержение реальности материи, – спиритуалисты [видят] безответственное ограничение всего реального телесным миром, скрытым под именем области опыта, – эклектики [считают ее] основанием новой секты, которая по вседозволенности и нетерпимости никогда не имела себе равных и грозит навязать рабское иго системы на недавно освобожденную шею немецкой философии, – популярные философы, наконец, сначала [считали ее] нелепым предприятием, посреди нашего просвещенного и вкусом обладающего века, вытеснить из философского мира обретенный здравый смысл схоластической терминологией и софистикой, но вскоре – и досадным камнем преткновения, который делает недоступным путь к популярной философии, недавно проложенный столькими легко понятными писателями, и на котором уже не только помощь подающих надежды молодых людей, но и философская репутация знаменитых мужей потерпела бы крушение. Здесь, конечно, я не могу противопоставить этим обвинениям ничего другого, кроме заверения, значительного только в глазах моего друга, что я нашел в «Критике разума» как раз противоположное всем возражениям, которые дошли до моего сведения; после того как я пять раз со всем возможным вниманием прочел это произведение в часы досуга, совершенно свободные от всех дел и забот, и преодолел все предрассудки, враждебные порывам, которые можно предположить у человека, который после десятилетнего занятия спекулятивной философией считает, наконец, что все догматические системы, постепенно принятые им, были заменены не менее догматическим скептицизмом.
Хотя различные и противоречивые сообщения, которые противники критической философии дают публике об истинной природе и ценности этой философии, избавляют меня от ненавистного упрека в том, что я «хочу быть умнее, чем большая часть моих современников-философов», перед вами и каждым, кто готов легко осудить: тем не менее, по моему суждению об этой новой философии, если бы оно было публично известно, я бы лишился всякого хорошего мнения о своей силе суждения и скромности среди этой большей части.
И на эту, и на любую другую опасность я бы не рискнул громко и публично признаться в том, о чем я сообщаю вам здесь: что я считаю критику разума величайшим из всех известных мне шедевров философского духа; что она поддержала меня и позволила совершенно удовлетворительным для моего ума и сердца образом ответить на все мои философские сомнения; и что, по моему живейшему убеждению, она предоставила все данные для разрешения великой проблемы, вызванной и поднятой описанным мною потрясением в области умозрительных творений. Совершенно новое и совершенно совершенное развитие способности познания, которое он содержит, объединяет великие, но по-разному противоположные точки зрения, с которых Локк и Лейбниц исследовали человеческий разум, и отвечает, даже превосходит, строгие требования, выдвинутые Дэвидом Юмом, возвышаясь до философии, основанной на несомненных принципах.
Все их основные положения могут быть возведены к общезначимой первопричине, – которая может быть облечена в определенную формулу и установлена в связи со своими следствиями, – и тогда они окажутся закрепленными в предельно простой, легко постижимой системе, которую можно охватить единым взглядом. Из нее не только может быть с уверенностью и легкостью выведена новая, общезначимая метафизика – подлинная наука, с одной стороны, об общих и необходимых предикатах познаваемого и постижимого, с другой – о необходимых свойствах объектов, постигаемых одним лишь разумом и для него непостижимых, – но также и высшая точка зрения всей истории, высшее основоположение вкуса, принцип всякой философии религии, первоначальный принцип естественного права и основной закон морали, в смысле, правда, до сих пор непризнанном, но удовлетворяющем справедливым требованиям всех сторон.
И вот, в то самое время, когда потребность в полной реформе философии достигла высшей степени благодаря всеобщему перевороту во всех областях философских наук, мы одновременно получили единственно возможное и совершенно адекватное средство для такой реформы и с радостным ожиданием предвкушаем одну из величайших, примечательнейших и действеннейших революций, которые когда-либо совершались в человеческом духе.
Я надеюсь убедить вас в обоснованности этого ожидания, постепенно представляя в моих следующих письмах наиболее выдающиеся результаты, которые кантианская философия дает относительно великой цели всей философии – а именно наших обязанностей и прав в этой жизни и основания нашей надежды на жизнь будущую. Я буду предварительно знакомить вас с выводами критической системы, приглашая и подготавливая вас к ее изучению согласно ее основаниям. Поэтому я изложу сами результаты независимо от их предпосылок, развитых в «Критике чистого разума»; с другой стороны, я постараюсь связать их с уже укорененными убеждениями, показать их связь с наиболее существенными научными и моральными потребностями нашего века, их влияние на разрешение старых и новых споров между философами и их согласие с тем, что величайшие философские умы всех времен мыслили о важнейших проблемах философии.
Я буду иметь дело при этом лишь с внешними основаниями этих результатов, и потому прошу вас отложить суждение об их внутренних основаниях до тех пор, пока вы не найдете досуга извлечь их из самого источника. Нефилософские и философские предрассудки, противящиеся результатам новой философии и которые я слишком хорошо знаю по собственному опыту, тем труднее опровергнуть, апеллируя к внутренним основаниям, что они отчасти отвращают волю, а отчасти ослабляют готовность сделать изучение – по общему признанию, трудное – собственно критической системы столь же желанным, сколь и успешным.
Поскольку наша переписка была вызвана вашей озабоченностью современным положением дел в религии, позвольте мне начать мое следующее письмо с того результата, который должен интересовать вас в этом отношении больше всех прочих.
Четвертое письмо
Результат философии Канта относительно существования Бога в сравнении как с общим, так и с особенным результатом прежней философии по этому вопросу.
То, что я до сих пор утверждал, исходя из отсутствия общепризнанного и удовлетворительного ответа на вопрос о существовании Бога, в действительности относится в большей степени к основаниям и доказательствам этого ответа, нежели к самому ответу, который большинством голосов – строго говоря, не уступающим в единодушии, – выносится утвердительно. Поэтому этот вердикт, вынесенный с таким всеобщим согласием и подкрепленный важнейшими интересами человечества, по праву именуется суждением общего и здравого смысла и должен опираться на неопровержимые основания и непреодолимые мотивы, которые всегда существовали, всегда продолжали действовать и, следовательно, могут быть обнаружены и развиты, но не могут быть изобретены или изменены.
Тем не менее, действительная, привилегированная или даже исключительная доля участия, которую разум – способность, по своей сути отличная от чувственности и склонности, – имеет в этом убеждении как особая познавательная сила, могла оставаться невыясненной, недостаточно обоснованной или даже совершенно неизвестной, без того чтобы это участие было менее реальным или само убеждение – менее обоснованным.
Семь простых цветов всегда составляли основание для получения белого цвета путем их равного смешения, даже до того, как Ньютон открыл наличие этих семи цветов в каждом луче света и результат их равного смешения в белом цвете.
Ньютонианец, который отказал бы в способности видеть белый цвет всем тем, кто-либо не знает, либо не желает признавать теорию семи цветов, поступил бы не многим глупее, чем метафизик, не позволяющий устоять ни одному убеждению в существовании Бога, которое не было бы прямо построено на доводах разума.
С другой стороны, невежду, который апеллирует к зрению, чтобы отрицать наличие семи различных цветов в белом, будут, возможно, судить снисходительнее, чем обычного религиозного фанатика, который апеллирует к здравому смыслу, чтобы отрицать разум на том основании, что все разделяют убежденность в существовании Бога.
Это участие [разума] могло выйти на первый план лишь постепенно, и лишь по мере того как потребность в определенном и более четком руководстве со стороны разума становилась все более насущной в связи с повышением уровня культуры и общественной жизни.
Суеверие и неверие успели уже далеко зайти, прежде чем богословы почувствовали необходимость уделить больше внимания вопросам о том, может ли вера противоречить разуму и может ли разум оправдать веру.
Однако можно считать фактом, подтвержденным опытом всех времен, что разум всегда приходил на помощь убеждению в существовании Бога у всех культурных народов, как только это убеждение начинало шататься в своих основаниях. И никогда, пожалуй, эти основания не были так основательно и так общедоступно поколеблены, как в наши дни.
Поэтому только в этом отношении можно надеяться, что разуму предстоит совершить нечто такое, чего он никогда не делал прежде. Никогда еще его доля в этом убеждении не обсуждалась так громко и публично; никогда еще его не призывали так настоятельно изложить свои основания определенным и общедоступным образом.
Это стало подлинным яблоком раздора между двумя нашими главными партиями, которые ни в чем так часто и так категорично не упрекают друг друга, как в том, что в своих доводах в пользу веры в существование Бога одни слишком много, а другие слишком мало говорят о разуме. И для тех, и для других становится все более невозможным опровергнуть эти упреки, оставаясь в рамках своих собственных систем.
Напрасно одни апеллируют к объективным основаниям разума, которые находятся за пределами возможностей здравого смысла и встречают столько противоречий среди самых искушенных мыслителей; напрасно другие апеллируют к фактам, внутренняя недостоверность которых в наше время начинает поражать самый здравый смысл, в то время как историческая сомнительность их происхождения становится все очевиднее благодаря изысканиям наших филологов и историков.
Если кто-то хочет отстоять свою аподиктическую уверенность, которая делает излишней всякую веру, у него нет иного выбора, кроме как утверждать то участие разума в этой уверенности, которое отрицают его оппоненты. Если другие хотят оправдать свою веру, которая должна сделать излишними все доводы разума, они должны опровергнуть участие разума в вере в существование Бога, как-то утверждают их оппоненты, исходя из самой природы разума.
Таким образом, вопрос «Какую роль играет разум в убеждении относительно существования Бога?» – по мере того как того требуют потребности нашего времени – распадается на два других: «Можно ли познать существование Бога разумом, причем таким образом, который делает излишней всякую веру?» и «Если существование Бога не может быть познано, возможна ли вера в него, которая не была бы основана на природе разума?». Критика чистого разума отвечает на оба эти вопроса отрицательно, показывает, исходя из природы теоретического разума, невозможность познания существования Бога, а исходя из природы практического разума – необходимость веры в то же самое; и в этом отношении она заставляет натуралистов отказаться от своих необоснованных притязаний на знание в пользу разумной веры, а супранатуралистов – принять свою веру из рук разума.
Этот вывод, разумеется, должен оказаться в высшей степени неожиданным для обеих сторон. Но поскольку теперь вся область чистого разума открыта их взору, они – если только болезни ума или иные внешние препятствия не удерживают их от пристального наблюдения за ней – должны поддаться тому впечатлению, которое заставляет одних упустить из виду в этой области то, чем, как они полагали, давно владели, а других – осознать то, о чем они сами никогда и не подозревали.
И те, и другие с лихвой вознаграждены за свои несбывшиеся ожидания открытием, превзошедшим даже самые смелые их притязания. До сих пор они считали, что вполне удовлетворительно опровергли предполагаемые доказательства против существования Бога. Но чтобы сама невозможность подобных доказательств была обнаружена и удостоверена в самой сущности разума – до такой мысли ни один из них еще не додумался.
Мнимая общезначимость их опровержений была опровергнута опытом; и сколь бы искусно, как им казалось, они ни отводили оружие своих противников при каждом нападении, тот факт, что эти противники всякий раз возвращались с тем же оружием, должен был лишить их всякой надежды когда-либо положить конец спору.
Кант сокрушил это оружие и тем самым сделал сам спор в будущем невозможным. Он представил атеизм, который ныне под личиной фатализма, материализма, спинозизма угнетает моральный мир более, чем когда-либо, в качестве фантома, обманывающего разум с очевидностью, на которую не могут претендовать даже наши новейшие теологи в своих разоблачениях дьявола; и если ныне или впредь еще остаются фаталисты и т.д., то это люди, которые либо не изучали, либо не поняли «Критику чистого разума».
Поскольку на стороне приверженцев догматического теизма находится большая часть публичных преподавателей философии, или, как они выражаются, философов по профессии, они тем более склонны считать свою партию единственно истинной философской публикой и видеть в догматических скептиках, атеистах и сверхнатуралистах лишь противников, давно побежденных и обезоруженных, или, вернее, философов, навсегда изгнанных из пределов философии. Но Вы, дорогой друг, известны мне как не обычный догматический теист.
Для Вас догматический скептик именуется Юмом, сверхнатуралист – Паскалем, а атеист Спиноза – не меньший философ, нежели догматический теист Лейбниц. Посему, если я спрошу Вас о результатах предшествующей философии относительно существования Бога, я знаю, что Вы отнесете меня к догматически-теистическому ответу столь же мало, как и к атеистическому, хотя Вы и убеждены в правоте первого.
Вы гораздо лучше станете различать частные результаты философских партий от общего результата самой философии и признаетесь мне, что философский разум (который не следует смешивать с разумом догматических теистов, подобно тому как здравый смысл [смешивают] с образом мыслей отдельных наций и классов людей) ничего положительного в вопросе о существовании Бога через своих прежних представителей не решил. Это, конечно, часто и громко повторяли сверхнатуралисты (после того как их приучили отречься от гражданства в философском мире, которое они несправедливо отрицали, и, наконец, даже отвергнуть имя философа как имя порицания). Это – обычный текст для современных восхвалений здравого смысла в ущерб философскому разуму. Но для меня это наблюдение имеет совершенно иное значение, нежели то, какое оно должно иметь в глазах врагов философии.
В нем заключено существенное различие, благодаря которому вопрос о существовании Бога, поскольку он является объектом здравого смысла, и поскольку он является объектом философского разума, приобретает совершенно различный смысл. В первом отношении этот вопрос гласит: «Есть ли причина мира (Ursache der Welt), отличная от мира?». Но во втором: «Есть ли основание для познания этой причины, то есть основание для убежденности в ее существовании, которое может быть уяснено каждой мыслящей головой и должно быть признано истинным каждым, кто его дает?».
Высказывание здравого смысла – это не суждение рассуждающего, анализирующего, демонстрирующего разума, но выражение предпосылок, вырванных из-под власти неодолимых потребностей и представленных ясными, но не отчетливыми понятиями; вера, которая является следствием побуждений, заложенных в изначальных склонностях человеческой природы, действующих непрерывно, но всегда непризнанных; вера, наконец, которая основана на неразвитых, а потому также отчасти непризнанных основаниях. Поскольку же, напротив, философский разум действительно имеет дело лишь с основаниями всякого убеждения, он не раньше может прийти к согласию с самим собой относительно какого-либо убеждения, чем ему удастся полностью развить эти основания, завершить их расчленение вплоть до предела постижимого и окончательно возвести каждую обнаруженную особенность к общему для всех философов принципу.
Поскольку философский разум не выполнил этих условий ни в одном из прежних ответов на вопрос о существовании Бога, вполне понятно, почему он так же разошелся с самим собой в этом вопросе, как и здравый смысл. Нельзя отрицать, что отрицающая главная партия ведет внутреннюю борьбу с самой собой, ибо она разделена на две особые партии, атеистическую и догматически-скептическую; из которых первая отвергает всякое основание для познания существования Бога, поскольку объявляет весь вопрос совершенно неразрешимым; а вторая – поскольку полагает, что может доказать небытие Бога; одна желает, чтобы понятие причины мира, отличной от мира, было признано необоснованным, другая – внутренне противоречивым.
Но философия религии ни в коем случае не может извлечь из давних раздоров своих противников то преимущество, которое, на первый взгляд, можно было бы ей от них пообещать; ибо утвердительная главная партия не в меньшей степени разделена на две особые партии, противостоящие друг другу: а именно, на догматически-теистическую (натуралистическую) и сверхнатуралистическую; из которых первая утверждает, что нашла основание для познания существования Бога вне, а вторая – в пределах разума; одна называет это основание доказательством, другая – откровением; одна отрицает веру другой, другая – знание первой. Каждая из этих четырех партий имеет три другие против себя, ибо каждая принадлежит к двум противоположным главным партиям; и, следовательно, порой ведет кампанию за союзников своего противника, порой – против своих собственных. Если догматический теист согласен со сверхнатуралистом в утвердительном ответе на вопрос [о существовании Бога], а догматический скептик с атеистом – в отрицательном ответе на вопрос о существовании основания для познания Бога, то, с другой стороны, утверждение, «что вопрос о существовании Бога может и должен быть решен разумом», объединяет догматического теиста с атеистом против догматических скептиков и сверхнатуралистов, которых объединяет утверждение противоположного.



