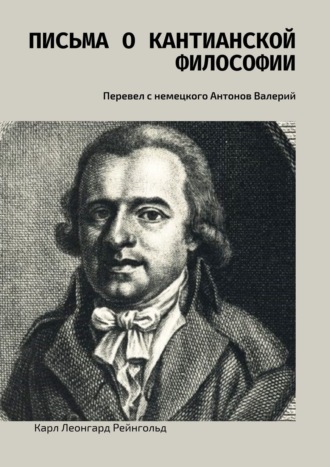
Полная версия
Письма о кантовской философии. Перевел с немецкого Антонов Валерий
Это, дорогой друг, не было установлено нашей философией доселе; и вы легко понимаете, что это не могло быть установлено без выхода за пределы всех наших метафизических систем, без нового исследования нашей познавательной способности, без указания с величайшей точностью неизведанной территории и неопределённых границ её, в особенности – без полного развития формы чистого разума, выявления его законов, отчасти непонятых, отчасти совершенно неизвестных, и установления правил его применения, о которых ещё не мечтал ни один логик.
Критика разума предприняла это исследование способности познания, и одним из самых выдающихся её результатов является следующее: «Что из природы теоретического разума следует невозможность всех объективных доказательств за и против существования Бога, а из природы практического разума – необходимость моральной веры в существование Бога». Этим результатом «Критика разума» выполнила условия, благодаря которым только наша философия могла бы упразднить метафизические доказательства существования Бога в пользу нравственного основания познания, обосновать религию на нравственности в её самой фундаментальной истине и тем самым завершить соединение двух начал на пути разума, которое является целью христианства и было начато его новым возвышенным основателем на пути сердца.
Из того, что было сказано до сих пор, я полагаю, что могу без колебаний заключить, что интерес религии, и особенно христианства, находится в полном согласии с результатами «Критики разума». Но это утверждение кажется мне слишком важным, чтобы я не пожелал представить его в ещё более ярком свете путём специального рассмотрения основания познания религии, которое этот результат устанавливает, исключая все другие.
Шестое письмо
Кантовская вера разума в сравнении с метафизическим и гиперфизическим основанием убеждения
Нравственное основание убеждения (moralischer Glaube), установленное философией Канта, обладает в настоящее время тем величайшим преимуществом, которое до сих пор одно только и могло побудить многих проницательных друзей религии не принимать в точности вопроса о метафизическом обосновании и которое, по сути, содержит первое и важнейшее условие для утверждения религии во всеобщезначимом виде: оно вытекает из одного только разума и не может апеллировать ни к естественному, ни к сверхъестественному опыту.
Сам Кант объяснил неизбежность и важность этого положения (в одном из своих эссе в «Берлинском ежемесячнике» за октябрь 1786 года) так, что превосходит всё, что я мог бы вам рассказать, и исчерпывает всё, что можно было бы сказать по этому поводу:
«Понятие о Боге и даже убежденность в Его существовании могут встречаться только в разуме, исходить только из него и приходить к нам прежде всего – ни по внушению, ни по какому-либо сверхъестественному откровению, сколь бы велик ни был его авторитет. Если я испытываю непосредственное созерцание такого рода, которое природа, насколько я ее знаю, не может мне предоставить, то понятие о Боге должно служить ориентиром для того, чтобы судить, соответствует ли это явление также всему тому, что необходимо для характеристики божества. Хотя я и не понимаю, как возможно, чтобы какое-либо явление представляло – даже в качественном отношении – то, о чем можно только мыслить, но никогда не созерцать, во всяком случае ясно, что для того, чтобы судить, является ли то, что предстает мне как Бог и что взывает к моим внутренним или внешним чувствам, им на самом деле, я должен соотнести это с моим рациональным понятием Бога и затем исследовать, адекватно ли оно ему или по крайней мере не противоречит ли ему. Точно так же, даже если бы во всем, посредством чего оно мне открылось, не было найдено ничего, что противоречило бы этому понятию, всё же это восприятие, явление, непосредственное откровение или как бы еще ни назвать такое представление, никогда не докажет существования существа, понятие которого (если только оно не должно быть определено неопределенно и, следовательно, быть подверженным примеси всех возможных заблуждений) требует бесконечности в своих атрибутах, чтобы отличить его от всех конечных существ, – понятие, которое вообще не может быть адекватно никакому восприятию или опыту и, следовательно, никогда не может быть однозначно доказано через них. Таким образом, никто не может быть убежден в существовании высшего существа посредством какого-либо созерцания. Этому должна предшествовать вера разума, и тогда некоторые явления или откровения могут самое большее дать повод исследовать, имеем ли мы основания считать, что то, что говорит с нами или является нам, есть божество, и подтвердить эту веру по своему усмотрению. Поэтому если в вопросах, касающихся сверхчувственных объектов, таких как существование Бога и будущий мир, отрицается право разума говорить первым, то открываются широкие ворота для всякого энтузиазма, суеверия и даже атеизма».
Учения, которые разум сначала устанавливает относительно этих объектов, составляют теорию чистой религии, которая должна лежать в основе каждой позитивной религии – поскольку та должна быть истинной и благотворной для человечества, – подобно тому как позитивные законы основаны на законе природы. Это истина, с которой сегодня без колебаний соглашаются более просвещенные приверженцы всех религиозных верований. Они даже согласны с сущностным единством, всеобщностью и неизменностью этой религии разума – однако не в отношении ее основополагающих понятий. Это особенно верно в отношении основания знания о существовании и атрибутах Божества. Назовите мне хоть одно из многих, до сих пор принимавшихся за таковое, которое не было бы успешно оспорено и, по крайней мере в той мере, в какой оно принималось за первое, опровергнуто. Они, рассматриваемые каждое в отдельности, не были ни абсолютно истинными, ни абсолютно ложными и ожидали своего всеобщего определения и доказательства от более высокой, еще не разработанной основополагающей концепции, путаница которой делала невозможным их соединение друг с другом и объединение в одном и том же мыслящем субъекте. Таким, например, становится положение христианского мира, разделенного на две партии, которые обвиняют друг друга в суеверии и неверии, из-за противопоставления тезисов: «Разум может верить только в существование Бога» и «Только разум может дать истинное убеждение в существовании Бога». На самом деле, каждое из этих предложений, в той мере, в какой оно принимается одной из двух партий за основное, истинно лишь наполовину и, по мере того как к нему присоединяется каждая из них, вступает в антитезу прямого противоречия с основным положением противоположной партии; тогда как эти два предложения, в той мере, в какой они выражают характеристики нравственного основания знания, совершенно истинны и должны быть безоговорочно приняты каждым, кто признает веру разума.
Но разве даже самые решительные приверженцы религии разума не распадались между собой на противоположные по сути секты, даже не подозревая, как легко можно было бы объединить их утверждения, если бы была вскрыта общая основа их непонимания? Разве деист, считавший, что истинное основание его убежденности лежит в онтологии или космологии, не считал теиста, который в данном случае придерживался физико-теологии, восторженным антропоморфистом, в то время как сам он считался атеистом в глазах последнего? – Наши обычные ученые компиляции, конечно, не могли и не воспринимали это столь точно. Они приветствовали любые доказательства, используемые где бы то, ни было, для истины, которая уже была установлена для них и их читателей. Поэтому в своих учебниках так называемой естественной теологии они помещали онтологические, космологические, физико-теологические и тому подобные аргументы бок о бок, без разбора, убежденные, что не делают слишком много хорошего и что не могут слишком тщательно защищать дорогую молодежь от опасностей неверующего века; между тем, будучи достаточно уверены, что тот вдумчивый человек должен считаться врагом религии и государства, который осмелится показать, что они накопили не более чем нули. В действительности они, по причине своей учёности, не понимали, что подлинный источник их убеждённости – та «единица», которую они, сами того не ведая, ставили перед всеми этими «нулями», – коренился в их изначальной вере. Эта вера была усвоена ими прежде всего из катехизиса и подкреплена стечением случайных обстоятельств, позволивших им сохранить ему верность. В конечном счёте же, насколько она вообще выдерживала испытание разумом, эта вера всегда оставалась не чем иным, как нравственной верой. Её основания лишь мимолётно и косвенно упоминались в их учебниках и занимали последнее место в рубрике rationum moralium – в качестве простого дополнения к наглядным доказательствам. Таким образом, нет ничего более понятного, чем то, как случилось, что та часть нашей метафизики, с которой мы до сих пор вынуждены были обходиться в отсутствие чистой теологии разума, была не более чем совокупностью неопределенных и бессвязных предложений, которым для системы не хватало ничего, кроме единства множества положений под одним принципом – то есть самого необходимого условия системы. Но не менее понятно, что нравственное основание убеждения (его правильность предполагается), в той мере, в какой оно признается единственным, исключая все другие, должно быть избавлено от этого существенного недостатка, если чистая теология не будет всегда оставаться лишь приятным сном, и должно быть защищено от возражений атеистов и гиперфизиков, которые, поскольку все они согласны в том, что религия не может быть оправдана разумом, могут быть опровергнуты только прочной системой разума в религии.
Действительно, нравственное основание убеждения, которое «Критика чистого разума» устанавливает как единственное, обладает также тем свойством первого принципа системы, что придает смысл, последовательную определенность и внутреннюю связность всем метафизическим учениям, относящимся к теологии разума. Можно сильно ошибиться в понимании «Критики чистого разума», если всерьез полагать, что она всё сокрушает, что она безоговорочно разрушает то, что до сих пор строили наши великие мыслители, и безоговорочно объявляет нашу прежнюю метафизику бесполезной. Она делает как раз обратное. Отказывая этой науке в способности, на которую она так плохо претендовала, – доказывать существование Бога, – она возлагает на нее великую задачу очищения нравственной веры от грубых заблуждений, которые до сих пор ее омрачали, и защиты ее от вырождения в суеверие и неверие; цель, для которой метафизика до сих пор была гораздо менее пригодна, поскольку она рассеивала силы разума в тщетной попытке оправдать свои пустые притязания и способствовала тому непониманию, которое лежит в основе суеверия и неверия. Критика разума дает теологии первый принцип на нравственном основании знания, которого не могла дать ей прежняя метафизика, и тем самым гарантирует ей всё то, что метафизика действительно может дать. Ибо поскольку нравственное основание убеждения стоит твердо как единственное, содержащее проверку, понятия, которые онтология, космология и физическая теология поставляют в доктринальное здание чистой теологии, сразу же получают содержание, связь и последовательное определение. Как только иначе непостижимое существование того существа, идея которого устанавливается и развивается этими метафизическими дисциплинами (если они мыслятся чисто), предполагается неопровержимым доказательством его основания, обнаруженного и развитого в области практического разума, эти иначе пустые понятия также получают свой реальный объект, находящийся вне идеи. Идеи самого реального существа, необходимого бытия, первой причины, высшей причины действительно перестали быть первыми основаниями знания о существовании Бога; но тем самым они оказались возвышенными над всеми контрдоказательствами и сомнениями, которым они подвергались в этом качестве, стали необходимыми для единственно истинного основания знания и, взятые вместе с ним, составляют упорядоченные части единого и завершенного здания, которое отныне стоит на неколебимом фундаменте вечности.
Неудивительно, что пока метафизики были заняты возведением этого здания, они уделяли меньше внимания фундаменту и даже, казалось, забыли о нем. Но когда они, наконец, зашли с этим так далеко, что тем, кто не мог сам возвести свое здание, ничего не оставалось, как устроиться либо вместе с метафизиками на одних только строительных лесах, либо с гиперфизиками – под развалинами рухнувшей пристройки слепой веры (сказочного дворца, созданного воображением из нетерпения к утомительному строительству чистого разума), настало время, чтобы появился знающий строитель с разъяснением: «Всё предыдущее строительство было не более чем возведением лесов, которые должны были позволить рабочим расположить и закрепить материалы теоретического разума на фундаменте практического разума».
Я назвал нравственное основание познания незыблемым фундаментом религии; я имею в виду ту силу и доказательность, которые оно черпает из своего источника – практического разума и с которыми не могут сравниться никакие исторические или спекулятивные доказательства. Тот, кто еще не почувствовал этого, либо вовсе не размышлял, либо лишь поверхностно размышлял об основании веры разума; предпочитал ему вымышленные основания, которыми он до сих пор довольствовался; позволил ввести себя в заблуждение неопределенными понятиями моральной уверенности (moralischen Gewißheit), которые до сих пор были в ходу в ученом мире. Доказательство морального закона – единственное, которое может быть поставлено рядом с математическим. В то время как все без исключения идеи теоретического разума оказываются пустыми для всякого созерцания, то есть не имеют никакого объекта, который мог бы быть дан в действительном или возможном опыте – единственном основании познания всего сущего, – идеи чистого практического разума, напротив, предназначены обрести свои объекты в реальном опыте (в нравственных поступках людей); и как принципы морального закона они могут быть, с одной стороны, выведены из самой сущности разума, так, с другой стороны, они могут быть сделаны ощутимыми в их воздействии на сердце и показаны через свои следствия в истинном внутреннем чувстве. Поэтому основание познания, которое они содержат для существования и атрибутов Божества, не только твердо и неизменно, как сама сущность разума, но также ярко и убедительно, как самосознание, которое человек имеет о своей разумной природе; при условии, конечно, что сначала будут устранены ложные основания познания, которые до сих пор навязывались разуму, еще не достигшему полного самопознания, отчасти бездумным суеверием, отчасти умозрительной схоластической мудростью, и затемняли его истинную точку зрения.
Как бы ни страдало нравственное основание познания от пагубного влияния на него других оснований, существование последних так же мало говорит против всеобщей достоверности первого, как, напротив, выставляет их в самом ярком свете. В то время как эти обманчивые основания менялись с каждым веком и климатом и не только в разное время и у разных народов формально противоречили друг другу, но зачастую в одно и то же время и среди одного и того же народа: вера разума, которая воспроизводилась повсюду и всегда рядом с ними, оставалась по существу совершенно одинаковой; всегда одно и то же предположение о сверхъестественном судилище, различающем нравственность человеческих поступков, или о высшем существе, которое имело бы достаточно силы, мудрости и воли, чтобы определить судьбу людей сообразно их поведению. Пройдитесь по религиозным системам всех древних и новых народов, насколько они нам известны, и в каждой из них вы найдете более или менее мифологические предания, а во многих – и метафизические умозрения; первые относятся к историческим, вторые – к философским основаниям познания. Допустим, достоверность одних [утверждений] и доказательность других остаются под вопросом. Сравните их по содержанию: противопоставьте чудесные явления – чудесным явлениям, схоластические доказательства – схоластическим доказательствам. Вы обнаружите, что они взаимно уничтожают друг друга, и что все предания вместе со всеми демонстрациями не сходятся ни в чём ином, кроме как в стремлении либо подкрепить веру (которую разум обязан признать на основе фактов) при помощи воображения, либо превратить её в знание посредством метафизических спекуляций – и, следовательно, искажали сам разум.
Выяснится, что всё ложное и пагубное в различных богословских системах основано либо на так называемых фактах, событиях, явлениях, откровениях и свидетельствах, либо на иллюзорных метафизических доказательствах. Всё же истинное и благотворное, что в них сохранилось, напротив, покоилось на нравственных основаниях познания.
В конечном счете окажется, что более или менее значительная часть нравственной веры, которую они в себе несли, была единственным, что оставалось незыблемым среди непрерывной смены всех прочих составных частей.
Как основание познания существования и атрибутов Божества, так и сама религия… Изолированная чувственность, бессмысленное чувство, слепая вера неумолимо ведут к фанатизму; изолированный разум, холодная спекуляция, необузданное любопытство ведут, когда наталкиваются на трудности, к холодному, умозрительному, пустому теизму. Принципы мысли и действия, чистота ума и сердца, теплота последнего, проистекающие из одного источника со светом первого, в своем взаимном очищении – элементы нравственности – порождают нравственную веру и составляют, если можно так выразиться, единственное чистое и живое чувство, которое мы питаем к Божеству.
Когда я думаю об общей истории религии, она, как мне кажется, указывает на постепенное развитие этого чувства. Я выделяю в этом процессе три главные эпохи. Первые две обозначают периоды, в течение которых один из двух упомянутых компонентов этого чувства был развит сильнее, нежели другой. С третьей начинается высшая культура обоих одновременно. В каждый из этих периодов вера разума ведет себя сообразно культуре его главных побуждений; и подобно тому как сначала чувство, затем разум, а под конец оба, объединившись, постепенно все теснее определяли основание познания для существования и свойств Божества: так возникла религия историческая, философская (собственно гиперфизическая и метафизическая) и, наконец, нравственная.
В прежние времена человечества, когда чувства говорили так громко, а разум так тихо, голос морального разума, провозглашавший веру в Божество, мог стать внятным лишь благодаря образному изложению, поучительным примерам и поразительным фактам. В ту пору, например, божество проявляло себя через благословение, следующее за праведниками, и проклятие, постигавшее нечестивых; и эти события, которые без морального разума были бы столь же необъяснимы, как и религиозные учения, из них вытекающие, без этих событий – дали материал для преданий, на которых основывалось религиозное учение. При том преобладании, которое грубая чувственность утверждала над неразвитым разумом и которое, благодаря страстям, пробудившимся с первыми успехами гражданской жизни, должно было скорее усиливаться, нежели ослабевать, – неверно понятые религиозные события и выродившиеся предания были неизбежны. Вместе с ними множились исторические системы религии (мифологии), и общее основание познания существования и атрибутов божества становилось, в точно такой же пропорции, скорее слепой верой, избегающей исследования, тогда как доля разума в нем терялась в толпе чудесных сказаний. Однако едва культура духа стала самостоятельным делом с возникновением и распространением наук, как была испробована другая стратегия.
Доля разума в убеждении о существовании Бога теперь столь же сильно преувеличивалась философами, сколь прежде игнорировалась обычными теологами. Если раньше мечты чувственности воплощались в действительность, то теперь та же участь постигла правила разума. Понятия, которые давали представление о божестве не более как о том, чем божество не может быть, были приняты за положительные определения бытия и свойств божества; и поскольку можно было доказать логическую правильность некоторых теологических идей здравого смысла, полагали, что доказали и действительную истинность их предмета. Наряду с историческим основанием познания – слепой верой – у человека теперь появилось и философское – пустое знание.
Оба эти основания познания сохраняются среди нас и поныне, и если новейшие сторонники одного не настаивают на религии без нравственности, а приверженцы другого – на нравственности без религии, то мы должны быть благодарны благотворному влиянию веры разума, втайне признаваемой обоими. Несмотря на это влияние, божество исторической религии до сего дня остается столь же безнравственным, сколь и необходимо становится, если исключить разум из основания убеждения в существовании Бога. По словам её нынешних апостолов, оно по-прежнему вмешивается в собственные творения – в дела природы; печётся исключительно о тайнах; творит одни лишь чудеса; ненавидит то, что любит человечество, и любит то, что претит человечности; рассматривает разум как чуждое и враждебное себе начало, взирает на его проявления недобрым оком и повелительными окриками прерывает его речи. Божество обычной, так называемой естественной религии, конечно, не безнравственно; ведь при ближайшем рассмотрении оказывается, что оно не имеет ничего общего с нравственностью, а ее исповедующие имеют религию лишь постольку, поскольку они внемлют вере разума, убедительную силу которой они с природной доверчивостью относят на счет своей метафизики.
В действительности религия более последовательных теистов, как и их основание познания, является полностью умозрительной, предметом размышлений, не связанным с их нравственностью, не влияющим на их чувства, не трогающим их сердца. Они предоставляют его самому реальному существу, идею которого они составляют из одних лишь логических отрицаний, – абсолютной необходимости, которую можно помыслить, и причине, о которой не известно ничего, кроме того, что она не может быть следствием, – не будучи в состоянии решить на основании этих терминов, помещают ли они это существо в мире или вне мира, приписывают ли ему простую необходимость природы или свободу, считают ли его материей или духом, словом, не зная, что им о нем думать.
Физико-теология, которая основывает свое знание на порядке, видимом в устройстве мира, и закономерном ходе природы, может столкнуться только с проницательным противником конечных причин и антропоморфизма, чтобы ввязаться в бесконечные споры; ей стоит лишь забыть о своей нравственной вере, которой она отнюдь не обязана такому воззрению, – и мысль о калабрийских землетрясениях, исландских пожарах, церквях, низвергаемых молнией, канонизированных злодеях, таитянских человеческих жертвоприношениях и других подобных фактах, пусть даже только ее времени, заставит ее забыть обо всем порядке и правильности. Мир представляется по крайней мере не более и не менее целесообразным, чем его противоположность.
Во всяком случае, мы должны судить об этом по многочисленным возражениям, которым подвергается каждое метафизическое доказательство, – отнюдь не столь незначительным, как может показаться тем, кто считает их опровергнутыми, и не лишенным тайного влияния даже на самых решительных защитников этих доказательств, – а также по природе метафизического основания познания, которое неизбежно оставляет сердце холодным. Это одна из главных причин постоянно растущего безразличия ко всякой религии вообще – истинной религии, которую не могут без оснований отвергнуть не только мыслящие головы нашего века, но и все без исключения, – и которое стало особенно модным среди благородной черни в той же пропорции, в какой начала подниматься репутация мыслящей головы.
Напрасны были бы все усилия тех немногих, у кого на сердце истинная религия и кто с большим рвением занят тем, чтобы осветить мрак исторической веры и согреть холод философской – чистой моралью разума. Вечно их мораль будет омрачаться одной и охлаждаться другой; вечно она должна будет подстраиваться под историческую божественность; вечно будет оставаться безразличной к божественности метафизической; и без вмешательства совершенно нового основания познания для нравственной религии нельзя предвидеть иного конца спора между религией и моралью, различных по своим основаниям познания, кроме того, что одна будет вытеснена другой, и либо вернутся времена, когда господствовала религия без морали – всеобщее суеверие, либо наступит время, когда будет господствовать мораль без религии – всеобщее неверие.
В свое время Евангелие чистого чувства соединило нравственность с религией, установив единственное среднее звено, которое ведет от религии к нравственности через путь сердца. В настоящее же время, когда печальное состояние религии, низведенной философами до уровня метафизической спекуляции, а энтузиастами – до мистического «чувства внутреннего», дает основание опасаться не что иное, как всеобщего неверия; в настоящее время мы получили Евангелие чистого разума, которое спасает религию, примиряя ее с моралью, устанавливая единственное основание познания, которое ведет от морали к религии путем разума; единственное, которое возводит существование Бога на такую высоту, что оно парит над всеми возражениями, которым до сих пор подвергались исторические и метафизические доказательства; единственное, которое исправляет и подтверждает все религиозные предания, придает всем метафизическим определениям Божества связность, отношение и интерес, в равной степени важные для ума и сердца; единственное, наконец, которое, обеспечивая единство системы чистой религии разума, непоколебимо ее обосновывает, и для ее распространения, поскольку она предназначена для всех людей, как самых простых, так и самых просвещенных, сулит такой же успех, какой мораль получила от чистого учения христианства.



