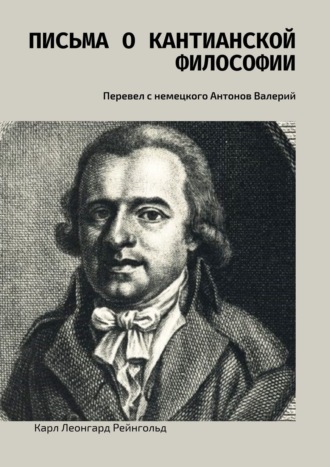
Полная версия
Письма о кантовской философии. Перевел с немецкого Антонов Валерий
Этот очерк перемен, произошедших во всех областях науки, принципы которых предполагают самопознание человеческого разума, может показаться кому-то сатирой на дух нашего века; но в моих глазах он содержит материал, который более искусное перо, чем мое, могло бы превратить в сдержанный панегирик этому духу.
Философы, конечно, спорили всегда, и уже в золотой век греческой философии четыре противоположные основные системы – платоновская, аристотелевская, эпикурейская и стоическая – достигли своей зрелости. Но никогда еще спор философов не распространялся на столь многие области науки и не велся столькими выдающимися умами; никогда еще влияние предметов этого спора на благосостояние и достоинство человечества и воздействие самого спора на эти предметы – одним словом, его практический интерес – не проявлялось столь явно; никогда еще нерешенные вопросы, разрешение которых отчасти является его целью, отчасти его необходимым следствием, не излагались с такой определенностью и не сводились к столь простым положениям; никогда еще этот спор не предвещал столь всеобщего и столь живого напряжения благороднейших сил человеческого разума.
После стольких – как успешных, так и неудачных – учений, после стольких действительно решенных важных проблем, после стольких бесполезных, безвкусных и безответственных споров, теперь во всех науках, которые должны получать свои принципы из природы человеческого разума, единодушно ставится великий, решающий вопрос о единственно необходимом. Метафизика требует общезначимого принципа всякого философствования вообще, история – высшей точки зрения для своей формы, эстетика – высшего правила вкуса, религия – чистой идеи Божества, прослеженной до всех общих принципов, естественное право – первого основоположения, а мораль – последнего фундаментального закона.
Возвести доктринальные здания всех этих наук, которые в соответствии со своими объектами покоятся на незыблемом фундаменте, до их сводов, и притом так далеко, что необходимость недостающих краеугольных камней стала очевидной для всех, – вот заслуга нашего века, превзойти которую можно лишь одним: самим обнаружить, обтесать и установить эти краеугольные камни.
Когда они будут установлены, наступит время убрать все балки, подпорки и строительные леса, которые своим раскачиванием и показывают, что являются всего лишь лесами, – убрать не только без ущерба, но и с пользой для здания. При последнем и самом сильном встряхивании односторонние мнения философов по вопросам, о которых человечеству не всегда суждено лишь размышлять, отлетят прочь, чтобы уступить место незыблемым принципам.
Третье письмо
А теперь, дорогой друг, давайте вернемся к вашей картине и посмотрим, не составляет ли она, взятая вместе с моей, единого целого. Если собранные вами явления действительно имеют общую причину, то ею является не что иное, как давнее непонимание границ способности разума в отношении религии, которое всё еще сохраняется, но стало теперь очевиднее, чем когда-либо. Следовательно, неясность и неполнота наших научных представлений о разуме и его отношении к остальным, столь же непонятым способностям человеческого духа, служат здесь – не в меньшей степени, чем в других освещенных мною областях науки – подлинной причиной неустойчивости всех принятых принципов. И в этом качестве она проявляется здесь гораздо явственнее, чем во всех других религиозных воззрениях, и притом самым непосредственным образом.
Здесь спорные моменты уже сведены к столь простым основаниям, что спорящие стороны отчасти прямо апеллируют к самому разуму, возвышая или принижая его в зависимости от того, насколько, по их мнению, они имеют основания быть довольными или недовольными реальными или мнимыми его решениями. Конечно, есть и разочарованные, которые врываются в область разума с некой страстной стремительностью, домогаются от него более удовлетворительных ответов и, поборовшись с ним некоторое время безрезультатно, либо переходят на его сторону, либо покидают поле битвы в качестве безучастных зрителей. Есть и такие удовлетворенные, которые именно в силу своего удовлетворения некритически принимают прежние ответы, повторяют старые доказательства разума с различными новыми оборотами речи и таким образом вовлекаются в подлинный спор между собой, в ходе которого они вообще забывают о возражениях недовольных против самой сути дела; если только они не полагают, что новыми словесными ухищрениями они вновь развенчали те же самые, давно опровергнутые ошибки.
Но подлинные самостоятельные мыслители с обеих сторон, от которых, в конечном счете, зависит судьба всего спора, отнюдь не считают его законченным; и их постоянное стремление – ныне более чем когда-либо деятельное – обосновать свое удовлетворение или неудовлетворенность прежними заключениями разума с помощью новых оснований не только поддерживает спор, но и придает ему тот счастливый оборот, который делает новое разрешение старой проблемы о способности разума всё более необходимым и приближает его, предварительно устанавливая его условия.
Ярчайшим доказательством того, сколь лишены доказательной силы – которая в случае столь важных предметов выражается прежде всего всеобщей достоверностью – ответы, данные разумом (или, вернее, кем-то от имени разума) на каждый вопрос так называемой естественной теологии, служит вечный спор по каждому из этих вопросов; и вопрос о существовании Божества является здесь самым ярким примером. Остановимся же на этом вопросе.
Исходим раз и навсегда из того, что именно разум с самых ранних времен своего развития постоянно поднимал этот вопрос. Я знаю, что и верующие, и неверующие противоречат этому утверждению. Первые утверждают, что разум никогда не может сам прийти к этому вопросу, а вторые – что он объявляет его излишним. Но я знаю, что вы, мой друг, не относитесь ни к тем, ни к другим и согласитесь со мной, что разум не только мог, но и должен был поставить этот вопрос. А раз так, то, должно быть, ему было невозможно до сих пор дать на этот великий вопрос окончательный ответ.
Он не мог в своих попытках ответить на этот великий вопрос обойтись без науки с ее своеобразнейшими понятиями, принципами и догматами, – одним словом, без метафизики, ныне столь гонимой. Скорее, эта наука в значительной мере обязана своим возникновением, а также своим постепенным развитием, именно вопросу о существовании Бога.
В самом деле, весь предмет этого вопроса не может быть осмыслен иными понятиями, кроме тех, которые становятся тем более метафизическими, чем более они очищаются от причудливых примесей воображения и предрассудков обыденности, и чем прочнее усваиваются в ходе постоянного исследования. Разумеется, и в наше время всё еще выдвигаются так называемые исторические, физические, моральные доказательства бытия Божия; но необходимая связь их с метафизическим понятием абсолютно необходимого Существа уже давно перестала быть тайной для наших мыслителей; и некоторые из них с радостной проницательностью показали, что метафизические понятия, на которых зиждется естественная теология, действительно могут быть подтверждены естественным и даже сверхъестественным откровением, но не могут быть заменены или выведены из него.
Даже наши старые теологи не считали излишним добавлять метафизические доказательства к своим доводам, почерпнутым из сверхъестественных источников: и хотя они обычно отводили им последнее место в своих обычных компендиумах, они всегда оказывались вынужденными извлекать их на свет и – даже против своей воли – признавать за ними первенство, как только им приходилось иметь дело с неверующими. Как показывает опыт, наши современные враги и пренебрегатели метафизики не нашли иного средства, чтобы обойтись без помощи своего противника, как только храня глубокое молчание по этому вопросу или блуждая в лабиринте смутных чувств. Но стоит одному заставить другого высказаться, а другому – дать вразумительный отчет о своей сердечной философии: и они оба, сами того, не зная и не желая, начинают изъясняться на языке метафизики – подобно тому господину, который говорил прозой.
Но каким бы неотвратимым ни был и ни остается метафизический вопрос о существовании Бога, до сих пор ни один из полученных от него ответов не удостоился всеобщего признания. Это относится не только к тем категориям людей, для которых вообще существуют научные доказательства, но также и – в особенности – к тем, кто провел большую часть жизни в науках и даже в метафизических изысканиях.
Литераторы, которым невозможно отказать в философском духе, не будучи при этом целиком им проникнутыми, объявили все метафизические доказательства бытия Божия несостоятельными: и либо присоединились к мнению, что разум не может решить абсолютно ничего по сему вопросу; либо зашли так далеко, что сочли возможным извлечь из посылок этих доказательств даже отрицательный ответ.
В самом деле, многообразное применение, которое догматические скептики, равно как и атеисты, находили для метафизики в своих утверждениях, в немалой степени способствовало укреплению старого взгляда на наследственную ущербность разума; и доказательства бытия Божия, как полагали, надлежало искать за пределами сферы разума и природы – в той самой мере, в какой они, как казалось, были утрачены в этой сфере.
«Таким образом, несмотря на все наши усилия, у нас до сих пор нет такой метафизики, на основании которой на столь часто поминаемый великий вопрос можно было бы ответить с общезначимой достоверностью». Это факт, который не может отрицать ни одна из наших нынешних философских партий, как бы высоко ни было мнение каждой из них о своем собственном, уже обретенном ответе.
Из того факта, что у нас нет такой метафизики, никоим образом не следует, что она не может быть. Те, кто утверждает эту невозможность в пользу веры, к которой они справедливо прибегают в отсутствие знания, должны признать другой, столь же неоспоримый факт, «а именно, что принципы их веры также еще не были приведены к общезначимому доказательству», – что эти принципы самым неудовлетворительным образом оспариваются самыми опытными и проницательными мыслителями. Разумеется, пока сама возможность метафизики, способной ответить на вопрос о существовании Бога общезначимым образом, еще не доказана, богословы веры, ссылающиеся на бесплодность усилий разума до сего времени как на довод против этой возможности, не могут быть полностью опровергнуты. Но и они, в свою очередь, не могут опровергнуть тех, кто ссылается на неослабевающую настойчивость этих усилий, на жизненно важный интерес, который человечество не может не питать к окончательному ответу, и на всё возрастающую несостоятельность каждого предыдущего ответа – как на основания надеяться на такую возможность. Сомнение, проистекающее из этих доводов и контраргументов, представляет собой одно из самых благотворных условий, при которых эта новая метафизика – будь она действительно возможна – могла бы утвердиться и получить признание. Противясь догматическим утверждениям как о реальном существовании такой науки, так и о её невозможности, это сомнение устраняет непреодолимые препятствия, которые и наши естествоиспытатели, и приверженцы сверхъестественного неминуемо воздвигли бы против поисков, разработки и распространения новой науки.
Как только это сомнение овладевает умами, обе стороны уже не в силах от него отмахнуться, ибо оно лишает их опоры, едва проникнув в сознание. Оно обладает тем большим преимуществом, что его противники никогда не смогут выступить против него единым фронтом, но вынуждены будут взаимно ослаблять друг друга ровно настолько, насколько пытаются опровергнуть его. Чем ревностнее они настаивают на своих утверждениях, тем явственнее обнажается слабость их взаимных доводов, и тем очевиднее для беспристрастного наблюдателя становится, сколь мало способны привести к всеобщему убеждению решения великой проблемы, вечно повторяемые одними – от имени метафизического разума, другими – от имени сверхфизического откровения.
То, что это происходит ныне среди нас, мне видится по знамениям нашего времени, которые, мой друг, представляются вам столь тревожными. Очевидно, они суть следствие и признаки всеобщего переворота во всех прежних философско-теологических доктринальных построениях, каждое из которых ныне подвергается нападкам с рвением и силой, невиданными доселе.
Несовместимость этих систем столь очевидна, что их последователи (научившиеся, впрочем, держаться в тени) остерегаются вступать в открытую полемику на своих лекциях. Они опровергают самих себя против воли, едва начинают доказывать; и в конечном счёте оказывается, что они лишь опровергли чужое мнение, так и не доказав собственное.
В реальном бою побеждает обычно атакующая сторона, если только она не слаба. Теист полагает, что атеизм вытеснен со всех рубежей, в то время как атеист торжествует над поверженными твердынями теизма. У протестантов нет непогрешимой церкви, а следовательно, и своей сферы, недоступной разуму, на почве которой их учения были бы надёжно защищены от нападок. Им остаётся лишь одно средство: использовать разногласия среди философов в своих интересах и возводить свои построения на обломках систем разума, разрушенных их противниками. Поэтому они всячески стараютсяdemonstrate, что противоречия между этими системами доказывают несостоятельность разума и незаменимость его сверхъестественного суррогата.
Что касается борьбы, в которой каждая сторона пытается обназить слабости противника, то они не могут оставаться к ней равнодушными. Чтобы избавиться от атеистов, они вынуждены объединяться с теистами и отказываться от своих прежних претензий к самому теизму.
Отсюда – частые противоречия среди приверженцев сверхъестественной партии: одни утверждают невозможность, другие – необходимость рационального доказательства бытия Бога; одни предпосылают это бытие доказательству Откровения, другие выводят его из Откровения; одни подразумевают знание, полученное заранее, чтобы затем уверовать в Слово Откровения; другие верят, прежде чем понять, кому следует верить. В этом всеобщем колебании устоявшихся систем и заключается, дорогой друг, причина того, что вы, желая занять свою позицию, оказываетесь на стороне философов, когда речь идет об опасности для разума, но на стороне богословов, когда возникает опасность для веры.
Загнанные в угол стороны делают всё возможное, в пылу спора заходят ещё дальше в своих требованиях и в попытках самозащиты обнажают такие слабости, которые не смогли вскрыть даже их противники. Не без сожаления мирный наблюдатель видит, как защитники разума сражаются за дело неверия, а защитники веры – за дело суеверия. Это объясняет и загадку того, почему эти две противоположные болезни духа распространяются среди нас в равной мере, подобно буриданову ослу, застывшему между двумя стогами.
Пока эта борьба продолжается с фанатизмом с обеих сторон, у некоторых более хладнокровных натуралистов и приверженцев сверхъестественного всё более укрепляется убеждение, что у них нет никакой надежды добиться всеобщего признания своих систем.
Это убеждение, которым мы, возможно, обязаны нашей нынешней терпимости и свободе мысли в большей степени, чем себе представляем, несомненно, в немалой степени способствует тому безразличию, которое становится всё заметнее по отношению как к метафизике, так и к сверхъестественному среди значительного числа их адептов и которое столь разительно контрастирует с неистовой стремительностью, с которой другие защищают метафизические и гиперфизические догмы.
Многие из наших новых философских и богословских писателей, чувствующих в себе силы и призвание к самостоятельному мышлению, устали от изысканий, которые приносят так мало признания и так много противоречий. Одни ограничились изучением человека и физической природы, другие – морали и Библии, добившись успеха, явленного в столь превосходных произведениях [просвещения]. Но по мере этого успеха растёт и холодность здравомыслящих умов к метафизике и сверхъестественному; а с другой стороны, благодаря непрекращающейся борьбе партий, несостоятельность прежних систем становится всё очевиднее. И философы, и богословы в конце концов оказываются не в состоянии игнорировать зияющую проблему – вопрос о бытии Бога, который прежде считался решённым. Поскольку же они не могут ни избегнуть этого вопроса, ни оставить его без ответа, вы и сами увидите себя вынужденным прислушаться к критическому сомнению относительно возможности вообще дать на него удовлетворительный ответ.
Это сомнение имеет так мало общего с обычным скептицизмом, который довольствуется неведением, что его суть, напротив, заключается в осознании неодолимой потребности в его разрешении. Крайне важный и непреходящий интерес, который человечество питает к убеждённости в существовании Бога и о котором так красноречиво говорят даже нелепые последствия суеверия и неверия, делает здесь всякое равнодушие невозможным и ведёт от сомнения к конкретному вопросу: возможен ли вообще удовлетворительный ответ на вопрос о бытии Бога?
Точнее (поскольку эта возможность не может быть доказана уже готовым ответом, но должна быть лишь исследована) – как возможен такой ответ?
Эта проблема – та критическая точка, где пути метафизики и сверхъестественного заходят в тупик, теряясь в бесконечных умозрениях и уводя всё дальше от истинной цели. Именно с этой точки и начинается новый, единственно верный путь вперёд.
Достигнув её, мы оставили позади два ложных направления. Поскольку же мы не можем вечно оставаться на месте, нам неизбежно следует двигаться вперёд – и, что бы ни случилось, разрешить эту проблему.
Искать условия для этого решения за пределами сферы разума или смешивать эту сферу с нашей прежней метафизикой значило бы повернуть вспять и снова заблудиться на одном из пройденных путей. Таким образом, не остаётся ничего иного, как прежде всего познать ещё неведомую область разума, в которой должны содержаться искомые условия. Чтобы при исследовании этой области не затеряться за её пределами в бесконечных вымыслах воображения, необходимо точно и ясно определить границы этой области; или, иными словами, нужно найти ответ на вопросы, поставленные на общепринятом принципе: что вообще познаваемо? Что следует понимать под познанием? И в чём, собственно, заключается специфическая задача разума в познании?
Мне кажется, дорогой друг, я вижу, как вы качаете головой при этих вопросах. Не потому, что вы не уверены, что их разрешение – единственный возможный путь, ведущий к цели. Но я слышу, как вы говорите: сам факт, что эти вопросы остаются проблемами после всего, что было сделано в умозрительной философии великими и малыми умами, даёт веские основания предположить, что они навсегда останутся неразрешимыми. Хотя я и могу вкратце обрисовать путь, который человеческий разум должен был пройти, чтобы подойти к этим проблемам, я, тем не менее, считаю себя вправе ответить на ваше возражение. Все важнейшие этапы, которые наша спекулятивная философия пережила до сих пор, должны были предшествовать самой возможности помыслить эти проблемы в их подлинном смысле и, следовательно, поставить целью их разрешение.
Все те философы, которые полагали, что уже нашли основания познания основных истин религии и морали, а также первые принципы естественного права и нравственности, едва ли могли додуматься до того, чтобы спросить себя, может ли и как разум установить общезначимые основания и принципы познания, – ведь они верили, что уже обладают таковыми. И если бы этот вопрос был задан им со стороны, они в ответ просто указали бы на свои мнимые достояния. Точно так же поступили бы атеисты и приверженцы сверхъестественного, которые также предвосхитили окончательные ответы на эти вопросы, хотя и совершенно иного рода.
И теперь я прошу вас, дорогой друг, не забывать, что философский мир во все времена в значительной степени состоял из догматиков; так что, пожалуй, на одного скептика приходилось сто догматиков.
Тем не менее, этот столь широкий и проторённый путь, существовавший до возникновения и разрешения проблем, вызванных критическим сомнением, был не только неизбежен, но даже необходим как отдалённая подготовка к ним.
Без рвения догматиков, поддерживаемого и вдохновляемого сладкой иллюзией обладания истиной, не могли бы произойти те многочисленные и отчасти замечательные подготовительные упражнения философского ума, которым разум обязан той степенью развития, которая предполагается для более масштабных начинаний.
В течение этого долгого периода заслуга скептицизма заключалась главным образом в том, что он заставлял догматиков оттачивать свои старые доказательства, изобретать новые, ограничивать свою самоуверенность и поддерживать свой пыл в напряжении.
Но ему так и не удалось вырвать у них мнимое знание сверхчувственного. Ему нечего было предложить им взамен; и на вопрос «что мы знаем?» у него не было другого ответа, кроме «ничего!» или, в лучшем случае, «не знаю!».
Поэтому догматики беспрепятственно продолжали свой путь и должны были продолжать его до тех пор, пока они сами и их наблюдатели не осознали, что этот путь удаляется от цели по мере своего продвижения, и пока скептики не убедились, что существует третий, ещё не испробованный путь, который был бы защищён от всех их прежних возражений. До этого момента остановить догматический прогресс не было ни целесообразным, ни возможным. Нет ничего понятнее, чем то, почему это время не наступило раньше.
История эпох и народов, достигших значительных успехов в науках, достаточно ясно указывает нам причины, по которым успехи философии так часто замедлялись или прерывались. С момента возрождения наук у догматиков потребовалось довольно много времени, чтобы разделиться на две основные партии, примерно равные по силе, – на правоверных и инакомыслящих, – пока им не было позволено свободно и в полный голос обсуждать свои разногласия, и пока первых не призвали призвать разум на помощь; до тех пор, пока в результате продолжавшейся борьбы трудность её разрешения не стала столь велика и столь очевидна, что более хладнокровная часть даже среди теологов и философов по профессии пришла к мысли, что весь спор либо вообще не может быть прекращён, либо, во всяком случае, отнюдь не может быть разрешён с помощью прежнего оружия.
До той степени, что мнение, объявляющее спор между натуралистами и приверженцами сверхъестественного неизбежно бесконечным и, следовательно, тщетным, стало общим местом у эмпириков; решающим же стало преобладание противоположного убеждения, что этот спор обусловлен недоразумением, которое должно быть раз и навсегда устранено, – в силу того важного и постоянного интереса, который питает человечество к ещё не решённому главному вопросу, касающемуся не меньше научных основ религии.
Так метафизический вопрос: «На что способен разум?» – звучит всё явственнее, и лучше всего его можно расслышать именно сквозь сумбурный шум богословской борьбы; и эта борьба ведётся всё более явно за и против силы и права разума высказываться первым в вопросах религии.
«Истинное познание Бога возможно только разумом!» – «Нет, разумом невозможно истинное познание!» – таковы лозунги противоборствующих сторон. Реальным или мнимым доказательством этих двух утверждений является то оружие, с которым они ведут войну друг против друга. Человек апеллирует от исповедуемых им систем к способности или неспособности разума, надеясь извлечь из них неоспоримые предпосылки для своих спорных утверждений.
Таким образом, отсутствие таких предпосылок – это та трудность, с которой обе стороны столкнулись одновременно, и поэтому они теперь ближе к подлинному источнику своего извечного недоразумения, чем когда-либо прежде, – ближе, чем они сами то осознают.
Смутное, но сильное ощущение этой трудности достаточно заметно проявляется в сомнениях, столь распространённых в наше время, – можно ли вообще отстаивать своё мнение с помощью разумных доказательств и можно ли разрешить свои сомнения силою разума.
Это отчаяние немало способствовало нынешнему безразличию и презрению к метафизике. Оно заставило многих подпирать их шаткую метафизику мистикой и каббалой; многих – прислушаться к призывам тайных обществ, которые обещали ответить традициями и откровениями на вопросы, казавшиеся неразрешимыми для разума; многих – обратиться от разума к чувству истины, здравому смыслу, интуиции и к каким бы то ни было иным инстанциям и т. д.
Наконец, именно это лежит в основе феномена настоящей ненависти к разуму, который вы, мой друг, так верно подметили и который столь характерен для нашего времени. Возможно, этому печальному явлению способствуют также низкая корысть и властолюбие тех несчастных, которые так боятся разума за своё ремесло и свои давние замыслы. Но будем справедливы! Общепризнанная праведность некоторых писателей, которые громко и публично заявляли о своём несогласии с разумом в вопросах религии, должна служить нам гарантией того, что причиной войны, объявленной ими разуму, стало обманутое ожидание удовлетворительного ответа для ума на вопрос, в котором сердце заинтересовано более всего. Эти писатели назвали причину вполне определённо: они вменяли разуму в вину – в целом и вполне открыто – отсутствие общезначимых принципов, на основании которых можно было бы ответить на вопрос о существовании Бога.



