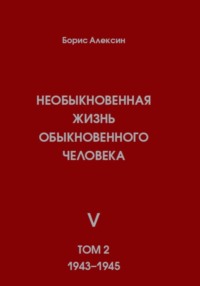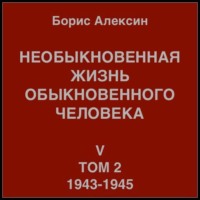полная версия
полная версияНеобыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 2
Анна Николаевна смотрела на затею своего мужа тоже довольно скептически, но так как пока другого выхода не было, то согласилась если не помогать, то, по крайней мере, не мешать ему в его деле.
После этого около недели Дмитрий Болеславович и Борис таскали во двор огромную кучу поблёкшей и пожелтевшей зелени с ближайших огородов. Эта куча вызвала недоумение и насмешки соседей, но уже через год, когда они увидели, какой практичный и полезный корм из этого бросового материала получился, заставило многих из них впредь им дорожить.
В основном всё дальнейшее приготовление, а впоследствии применение его для корма свиньи, было возложено на Борины плечи, дядя только руководил.
Готовился силос так. Вся собранная зелень была изрублена тяпкой в корыте, предназначенном для рубки капусты, на это ушло несколько дней. Изрубленная масса укладывалась в большую двадцативедёрную бочку и плотно утрамбовывалась колотушкой. После слоя зелени толщиной 3–4 вершка насыпалось немножко соли и горсточка ржаной муки, затем накладывался новый слой и т. д., пока бочку не заполнили до самого верха. Нельзя сказать, чтобы эта работа была особенно приятной и лёгкой. К вечеру от неё у Бориса болели и плечи, и руки. Провозился он с ней весь август. Ещё не дожидаясь конца приготовления силоса, хотя дядя Митя и предупреждал, что он должен некоторое время постоять – закиснуть как капуста, Анна Николаевна решила его испробовать в деле:
– А будет ли есть Мариванна (так она называла свинью) это дикое кушанье?
Приготовлением первого блюда из силоса руководил сам Дмитрий Болеславович: положил силос в большой чугунный котёл почти на три четверти, долил воды, закрыл крышкой и поставил на плиту. Это варево парилось часа два, затем его остудили и вылили в корыто Мариванны. К удивлению Анны Николаевны, свинья накинулась на эту довольно-таки вонючую похлёбку с таким аппетитом, с каким не ела даже самые лучшие госпитальные помои. Больше того, почувствовав запах силоса, к нему через загородку потянулась и Танька (так звали козу), и когда ей налили немного в миску, то и она съела блюдо до конца.
Так приобрёл гражданство среди кормов кинешемских горожан «силос доктора Пигуты».
С сентября начались занятия в школе. В этом году они начались рано, то есть с 1 сентября. Это было нововведение, которое вообще-то, конечно, пошло на пользу, но оно первое время возмущало ребят, привыкших к тому, что все последние годы занятия в школах начинались с I5 сентября или даже с 1 октября. Начало занятий в школе выбило из колеи Анну Николаевну. В последнее время на племяннике лежала основная масса домашней работы, а с началом учения он уходил из дому больше, чем на полдня. Сама она работала через день, но уходила с утра и до вечера. Её паёк и жалование были необходимы, поэтому оставить службу в госпитале она не могла. Рассчитывать на мужа не приходилось: помимо того, что он часто выезжал в командировки, даже тогда, когда был в городе, засиживался на работе до позднего вечера. Единственное дело, которому он уделял время, был его маленький огородик, снабжавший овощами семью всё лето. А в этом году он даже накормил всех вкусными (a Борей впервые испробованными) помидорами, которые с грядок были сняты ещё почти зелёными, но вполне дозревшими под кроватью.
Сапожное дело Дмитрий Болеславович давно забросил. Сшив туфли для Анны Николаевны, о качестве которых мы говорили, он убедился, что одного желания стать сапожником мало – нужны практические навыки, которых он получить не мог. Да, возможно, всё-таки понял, что пролетарием ему всё равно не сделаться, да, наверно, это и не нужно. По-видимому, следует как можно лучше работать там, где он служит.
Кроме того, и надобности в подобной кустарщине уже не было. В многочисленных магазинах, которые открывались чуть ли не каждый день, можно было приобрести самую разнообразную обувь.
С начала октября начали заготавливать овощи на зиму. В большинстве провинциальных городов, а особенно в то время, старались создать запас овощей (картофеля, капусты, свёклы и других) на всю зиму. Соленья хранили в погребе, остальные овощи – в подвале. Своего подвала в доме, где квартировали Пигуты, не было, арендовали подвал в одном из соседних домов. Предстояло подготовить его к приёмке овощей, это поручили Боре: вычистить пол, выбросить различный мусор на помойку, натаскать свежего песка. Вскоре он приступил к этой работе. Она оказалась не только физически трудной – нужно было перетаскать несколько десятков вёдер земли и песка, но ещё и очень неприятной. От остатков старых полусгнивших овощей подвал был наполнен тяжёлым запахом, Боря прямо задыхался. Но самое неприятное заключалось в том, что в подвале оказалось огромное количество мышей и крыс, которые с противным писком шныряли между Бориных ног, а иногда попадали под лопату, которой он сгребал мусор. В углах подвала мусор приходилось очищать маленьким совочком и руками, и тогда непрошеные жильцы попадали ему в руки и кусали его за пальцы. Вообще-то Борис животных не боялся: он брал в руки лягушек, ящериц, ужей, не боялся и мышей, но, когда ему несколько раз приходилось выгребать руками крысиные гнёзда, заполненные десятками маленьких, розовых, голых и почему-то очень противных крысят, он чувствовал отвращение. Когда, наконец, работа была окончена, это было счастье.
В сентябре Анна Николаевна наняла новую прислугу – девочку лет четырнадцати, которая ничего не умела делать, и её можно было только отправлять гулять с Костей. В этом же месяце в семье произошёл очередной скандал. Анна Николаевна узнала, что под видом командировки по уезду муж ездил в Иваново, в гости к сестре, и отвёз ей довольно значительную сумму. Какова была её реакция при получении такого известия – понятно. Кончилась эта ссора тем, что она заявила:
– Раз ты ведёшь себя так, то и я теперь буду делать как хочу, не считаясь ни с чем, и, пожалуйста, никаких претензий ко мне не предъявляй. Теперь я буду приглашать к себе в гости кого и когда захочу.
В одно из воскресений октября она и решила осуществить свою угрозу, пользуясь тем, что муж находился в командировке. Однако ей не хотелось, чтобы свидетелями её гулянки явились дети. Как только Боря закончил работу по двору и хотел отпроситься, чтобы убежать к Стакановым, она подозвала его к себе на кухню, где что-то стряпала, и сказала:
– Борис, ты сегодня достаточно наработался, а я тебя хочу попросить ещё об одном деле. Пожалуйста, своди Костю в кинематограф, да и Надьку (так звали новую прислугу) с собой прихватите. С ней одной я Костю пускать боюсь.
Кинематографом стали называть то, что раньше обычно называли иллюзионом, о котором в Темникове Боря только слышал из рассказов друзей и в который здесь, в Кинешме, он ходил уже несколько раз с дядей или тёткой, конечно, вместе с Костей. Более приятного развлечения, чем видеть, как на экране проносятся ковбои, как какой-нибудь вор забирается по отвесной стене или люди, одетые в костюмы мушкетёров, дерутся на шпагах, Борис не знал. Всё это, конечно, показывалось беззвучно, а изображение сопровождалось игрой на старом рояле. При этом игравший не всегда смотрел на экран, и часто его музыка звучала весело и бравурно во время какой-нибудь трагической сцены, или наоборот – комическое событие происходило чуть ли не под похоронный марш. Билеты в кинематограф стоили дорого, и поэтому часто посещать его не удавалось. Предложение тётки Борис встретил с радостью, он решил, что это – ему награда за тот тяжёлый труд, которым он был занят последнее время.
Через полчаса посла обеда, проглоченного ребятами с необыкновенной быстротой, они, снабжённые необходимыми деньгами, уже мчались к зданию кинематографа. Он помещался в одном из больших каменных сараев, стоявших недалеко от базарной площади и пристани. По своему наружному виду от других таких же сараев этот отличался только тем, что вечерами около него толпился народ, а на стенах были развешаны грубо намалёванные афиши, да около дверей примостилась маленькая деревянная будочка – касса.
Внутренний вид его тоже не сильно отличался от других сараев. На старом выщербленном деревянном полу, который, вероятно, никогда не мылся, а подметался не чаще раза в неделю, было укреплено двенадцать рядов грубо сколоченных деревянных скамеек. Под ногами хрустел толстый слой скорлупы подсолнечника, служившего главным лакомством кинешемских щеголих, приносивших их целыми карманами и в продолжение всего сеанса лузгавших без перерыва. На одной из стен сарая висел экран, сшитый из десятка полос обыкновенной бязи. Около экрана стоял рояль, на котором подвизался местный виртуоз – немного подвыпивший, пожилой, худой, сгорбленный человек, одетый в затасканный пиджак, но зато с галстуком-бабочкой. Говорили, что он был сыном одного из кинешемских фабрикантов, уехавших во время революции за границу, а его, опустившегося шалопая, бросившего здесь.
На противоположной стене сарая было два окошечка: в одном из них торчал аппарат, и во время сеанса от него через весь «зал» до экрана шёл блестящий белый пучок света, через другое – механик наблюдал за ходом картины. На самом же деле механик, крутя ручку аппарата (тогда в большинстве кинотеатров проекторы крутили вручную), разговаривал с кем-нибудь из приятелей, зашедших в будку, в результате чего на экране то появлялись половины кадров, то всё начинало двигаться с неестественной быстротой, то чуть ли не останавливалось. Ленты в такие уездные города, как правило, поступали старые и часто рвались. Эти неполадки вызывали в зале шум, топанье ногами, свист и крики: «Сапожник!». Главными инициаторами этого гвалта, доставлявшего им определённое удовольствие, были мальчишки Бориного возраста, которых, кстати сказать, на каждом сеансе находилось всегда большинство. Тогда ещё не додумались до надписи: «Детям до шестнадцати лет вход воспрещён», и на любую картину пускали всех, тем более что многие взрослые в кинематограф не ходили, считая эту забаву слишком легкомысленной, не совместимой с достоинством взрослого человека. Ну, а верующие называли это зрелище бесовской забавой.
Иногда киномеханик, бывший в глазах ребят чуть ли не божеством, снисходил до того, что пускал наиболее любознательных в свою будку, позволял им крутить ручку аппарата и помогать при смене ленты. Ведь её нужно было менять после каждой части картины: новую плёнку заправлять в аппарат, а старую перематывать, чтобы подготовить её к следующему сеансу. Впоследствии Боря и Дима сумели хорошо познакомиться с механиком и не один раз помогали ему с перемоткой ленты и в демонстрации картины. Но это было уже в будущем, 1923 году.
А пока же посещение кинематографа – большая редкость, и Боря, как, впрочем, и все его сверстники, старался использовать это удовольствие на сто процентов. Все они не довольствовались просмотром картины в один сеанс, а, как правило, смотрели одну и ту же картину подряд два, а то и три раза. Больше трёх сеансов одной картины в кинематографе в Кинешме не бывало. Если этого не удавалось сделать бесплатно, ребята покупали новые билеты и с таким же интересом, как и в первый раз, следили за всеми событиями, происходившими на экране.
Боря сумел провести Костика бесплатно и таким образом сэкономил денег на второй билет для себя. Надя в этой махинации ничего не поняла, она и в кино-то пошла всего второй раз в жизни. Всё её внимание было поглощено окружающим, а затем картиной.
Костя откровенно скучал: шла какая-то любовная драма с участием Веры Холодной, и если Борис во всех этих делах разбирался достаточно хорошо и вместе с друзьями переживал страдания героини, то Костя томился темнотой и, хныкая, просился домой.
Надеяться просмотреть картину ещё раз с ним уж никак не приходилось. После окончания первого сеанса Боря заявил Наде, что ему нужно зайти в школу, и отправил их с Костей домой, а сам купил новый билет и просмотрел картину ещё раз.
После кино Боря с кучкой приятелей довольно долго обсуждали увиденное, поведение героев и отношение ко всему происходившему в картине. Всё это заняло немало времени, и когда Боря вернулся домой, было уже более десяти вечера. Нужно сказать, что возвращался он далеко не спокойным. Он ожидал получить от тётки солидный нагоняй, тем более что и сам считал, что вполне заслужил его.
К его удивлению, ничего не произошло. Когда мальчишка зашёл на кухню, он увидел Надю, с ожесточением перетиравшую огромный ворох посуды, который она только что закончила мыть. Костя уже спал, Анна Николаевна находилась в спальне.
Прожевывая на ходу кусок хлеба, Боря, довольный, что его возвращение прошло незамеченным, тихонько спросил:
– Что, гости были?
Надя сердито буркнула:
– Да, гости!
Боря на эти слова внимания не обратил, полагая, что у Анны Николаевны находился в гостях кто-либо из её приятельниц. Он быстро шмыгнул в свою комнату и уже через несколько минут спал.
Этот случай быстро забылся.
Глава одиннадцатая
Однако вскоре, когда дядя Митя был в командировке, Анна Николаевна, воспользовавшись каким-то предлогом, опять спровадила ребят в кинематограф. На деньги, которые они при этом получили, они смогли не только купить билеты, но и ландрина. Как и в прошлый раз, Костя еле высидел один сеанс, но на этот раз картина не понравилась и Борису, и они все вернулись домой одновременно. Было ещё не поздно, а тётка уже лежала в постели, и на кухне была вновь груда грязной посуды.
На этот раз Надя решила посуду не мыть. Она считалась приходящей прислугой, обычно часов около десяти вечера уходила домой и лишь иногда ночевала у Пигуты. Ребята поужинали, Надя уложила Костю спать и ушла домой, Боря, улёгшись в постель, задумался: «Почему это, приглашая гостей, Анна Николаевна старается его и Костю выпроводить из дома? Раньше ведь она всегда настаивала на том, чтобы при гостях Боря обязательно был дома, чтобы помогал по хозяйству и занимался с Костей. А сейчас как бы старается избавиться от него. Больше того, раньше она всегда высказывала недовольство задержкой Бори в школе на дополнительных занятиях по физкультуре, а теперь этого как будто и не замечала…»
В пятнадцать лет каждый из нас чуть-чуть Шерлок Холмс, ну а Борис, начитавшийся книг и насмотревшийся всяких лент о поведении неверных жён и о знаменитых сыщиках, раскрывающих самые невероятные преступления, был вполне готов к тому, чтобы вступить на эту стезю и расследовать дело со всей тщательностью.
Он уже мысленно рисовал картину, как, застав свою тётку на месте преступления, он выступит как гневный обличитель и защитит честь своего дяди. Расскажет обо всём дяде Мите, выведет свою опозорившуюся тётку на чистую воду и, очевидно, так он, по крайней мере, предполагал, будет увенчан лаврами знаменитого сыщика. Анна Николаевна, как это мальчик не раз видел в кинематографе, раскается, будет просить прощения, перестанет ругаться с дядей, и в их семье наступит мир. А виновником всего этого будет юный, но проницательный Борис. Так он мечтал…
В один из вечеров, когда дядя был в командировке, Борис должен был задержаться в школе часов до десяти, а Костя и Надя отправились в кинематограф, мальчик решил схитрить. Он ушёл со своих занятий раньше положенного и явился домой не в десять, а около восьми часов вечера. У него уже давно имелся свой ключ от парадной двери, чтобы он мог приходить домой, никого не беспокоя. Зашёл он тихо, разделся, проскользнул в свою комнату, положил книжки и тетрадки, заглянул на кухню и, убедившись, что ни Кости, ни Нади нет, решился на отчаянный шаг. Раздеваясь в прихожей, он заметил на вешалке два чужих пальто – мужское и женское, платок и шапку, а из-за закрытых дверей столовой услышал приятный мужской голос, напевавший какой-то романс, и весёлый смех тётки. Между прочим, до сих пор такого смеха её он не слышал. Собравшись с духом, Борис подошёл к двери столовой и, быстро её открыв, остановился на пороге.
Его появление явилось настолько неожиданным и внезапным, что на несколько мгновений как бы ошеломило присутствующих, а их было трое.
На диване сидели Анна Николаевна и её подруга – тоже сестра милосердия из госпиталя, Вера Васильевна. Последнюю Боря хорошо знал. Она жила на этой же улице, была моложе Анны Николаевны, до войны служила в какой-то мастерской модисткой, во время войны закончила курсы сестёр милосердия, была даже на фронте, а затем стала работать в кинешемском госпитале. Эта невысокая белокурая тоненькая женщина, всегда весёлая и бодрая, не забывала своей прошлой профессии и полностью обшивала Анну Николаевну. Иногда она шила кое-что и для Кости, и даже для Бориса. Последнему обычно она перешивала что-либо из старого белья дяди. Она всегда подшучивала над Борей и, снимая с него мерку, говорила:
– Ну-ка, жених, давай померяем тебя!
Борю эти шутки смущали, хотя и носили безобидный характер.
Дядя Митя её не любил, считал женщиной пустой, легкомысленной и неумной. Но, по всей вероятности, главной причиной его неприязни было её «низкое» происхождение; он ещё не сумел избавиться от своего барского мировоззрения насчёт людей. Он считал, что дружба его жены с такой женщиной унижает её. Кстати сказать, эта дружба была тоже одной из причин ссор супругов.
В противоположность мужу, а может быть, даже именно наперекор ему, Анна Николаевна считала Веру Васильевну – Верочку, как она её называла, хорошей, доброй женщиной, у которой просто не сложилась жизнь. Человек, который якобы её любил и которого она любила, женился на другой, а она так и осталась одинокой. Верочка, кроме всего прочего, была ещё и очень полезной приятельницей, так как за работу свою брала самую мизерную плату. Приходила она к тётке почти всегда в отсутствие дяди. В отношении этой женщины Борис был согласен с Анной Николаевной, а не с дядей.
Третьим в этой компании был Николай Васильевич – тот самый Николай Васильевич, которым так часто тётка пугала дядю. Именно его Настя называла полюбовником Анны Николаевны и именно его Боря видел в госпитале, когда прибежал сообщить о возвращении из тюрьмы дяди.
Николай Васильевич сидел на стуле около стола, держал в руках гитару и что-то пел. При появлении мальчика он так и застыл с полуоткрытым ртом.
На столе находилось много разнообразных закусок, большую часть которых, очевидно, принесли гости. Таких вкусных вещей, как знал Боря, в доме не было. Кроме самовара, на столе красовалась бутылка красного вина.
Окинув всё это взглядом, Борис уже был готов выпалить обличительную тираду, которую он заранее приготовил и после которой гостю уже ничего бы не оставалось делать, как только немедленно покинуть дом, а тётке – расплакаться.
Но картина, которую он застал, была так не похожа на ту, которую он себе нарисовал – тётка не находилась с гостем вдвоём, тут же присутствовала хорошая знакомая, что совершенно рухнуло его предположение о прелюбодеянии тётки, и вместо обличительных грозных слов он довольно робко произнёс:
– Здравствуйте…
При звуке его голоса первой опомнилась Вера Васильевна. Она вскочила со своего стула, подбежала к Боре и, желая побыстрее загладить смущение, которое всех охватило, затараторила:
– А, жених появился! Что же ты на пороге стоишь? Проходи, проходи, садись к столу, сейчас мы тебе винца нальём. Да, знакомься с Николаем Васильевичем, это наш начальник, он очень хороший, добрый и весёлый человек, хорошо играет на гитаре и поёт. Может быть, и ты умеешь на гитаре играть? – тормошила она мальчишку, подтаскивая его за рукав к столу. Верочка была невысокого роста и в своём несколько суетливом стремлении загладить неловкость, вызванную внезапным появлением мальчика, походила на маленькую нашалившую девочку, торопившуюся как-то скрыть свою шалость.
Боря упирался и недовольно буркнул:
– Я только петь умею.
При этом он взглянул на Анну Николаевну, ожидая получить суровое приказание отправляться в свою комнату, и уже мысленно клял себя за своё глупое стремление поймать тётку с поличным, но Анна Николаевна, если и была недовольна несвоевременным появлением племянника, виду не подала. К этому времени краска смущения или возмущения, залившая её лицо при его приходе, уже сошла: она вполне овладела собой и, взглянув на растерянное и испуганное лицо мальчишки, улыбнулась и довольно приветливо сказала:
– Ну, уж раз ты пришёл, Борис, то подходи к столу. Попьёшь с нами чай, поужинаешь. Почему ты сегодня так рано?
– Заболел учитель физкультуры… – хмуро соврал Боря, подходя к столу и садясь рядом с Николаем Васильевичем.
Анна Николаевна подала ему чашку с чаем и на тарелочку положила бутерброды с колбасой и сыром.
– А танцев разве сегодня не было?
– Танцев тоже не было, – опять соврал Борис.
В школе с этого года ввели урок танцев. Борис посещал его, хотя, откровенно говоря, совершенно бесполезно: танцевать он так никогда и не научился.
– Так ты танцевать умеешь? – вскочила присевшая было Вера Васильевна, – давай потанцуем, а Николай Васильевич нам сыграет!
– Нет, – ответил Боря, – я ничего не умею. Я вам все ноги отдавлю. Девчонки, с которыми мы вместе учимся, на меня всегда ругаются…
Это заявление вызвало у всех весёлый смех и как-то сразу разрядило напряжённую обстановку.
Пока Боря пил чай с бутербродами и очень вкусным печеньем, Николай Васильевич по просьбе тётки спел несколько песен. Затем они пели что-то вместе с Верой Васильевной. Потом выпили по рюмке вина, причём Верочка хотела угостить им и Борю, но Анна Николаевна категорически запротестовала. После этого говорили ещё о чём-то. Допив чай, Борис ушёл в свою комнату.
Гулянка сорвалась: то настроение, которое было у гостей и хозяйки до Бориного прихода, исчезло, и просидев ещё для приличия около получаса, Николай Васильевич и Вера Васильевна ушли. Вскоре вернулись из кинематографа и Костя с Надей.
Когда Анна Николаевна закрыла за гостями дверь, Боря сидел за столом дяди, смотрел в какой-то учебник, раскрытый перед ним, но, кажется, ничего там не видел. Мысленно он ругал себя за трусость, называл тряпкой, слюнтяем и прочими нелестными прозвищами. Он говорил себе: «Ну и что же, что они не вдвоём были? Ведь это она нарочно Веру Васильевну приглашает, чтобы глаза замазать. Что же, ты думаешь, они вот так всё время и будут в обнимку сидеть? Уже одно то, что она без дяди чужого мужчину в дом пускает, да ещё с ним и вино пьёт, говорит о её развратном поведении. Вот так и надо было сказать, а ты струсил! Вот сейчас пойду и всё ей выскажу, пусть делает со мной, что хочет, небось, дядя Митя её за это тоже по голове не погладит…».
Но в этот момент прозвучал спокойный голос Анны Николаевны:
– Борис, ты очень занят?
– Нет, а что?
– Пожалуйста, подойди в столовую, помоги мне убрать посуду. Надя Костю укладывает, а мне одной возиться не хочется…
Что-то в тоне её голоса заставило Борю немедленно вскочить и броситься в столовую. Анна Николаевна сидела за столом и как-то машинально мыла в полоскательнице рюмки, чашки, блюдца, составляя вымытые на поднос. Она молча указала Боре на полотенце, он взял его и начал вытирать посуду. Он заметил, что лицо его тётки какое-то необычное: немного растерянное и грустное. Она несколько раз взглянула на мальчика, как бы решая что-то про себя, и наконец заговорила:
– Ты, Борис, поди, думаешь про меня теперь очень плохо? Ведь ты уже большой, не ребёнок, ты много читал. Я вот думала, разговаривать ли мне с тобой на эту тему или нет, решила лучше поговорить. Поймёшь ты меня – хорошо, нет – ну что ж, я, по крайней мере, выскажу тебе всё. Зачем? Я и сама не знаю… Просто мне хочется поделиться с кем-нибудь более или менее близким своими мыслями. А ты ведь, как ни говори, мой племянник (между прочим, это был первый и единственный раз за всё время, когда Анна Николаевна назвала Борю «мой племянник»).
Помолчав немного, она продолжала:
– Ты знаешь, я очень люблю твоего дядю Митю и, наверно, никогда ни на кого не променяю, не изменю ему, хотя при наших ссорах и говорю обратное. Но жить так, как он, я не могу. Понимаешь, мне скучно, очень скучно! Он всё время занят на работе, дома тоже своими делами занят, кроме того, очень часто уезжает. Его знакомые, которые иногда у нас бывают, это чопорные, скучные и благовоспитанные люди, я с ними и говорить-то не умею. Я им, а они мне неинтересны, в их присутствии мне становится скучнее, чем без них. А мои знакомые (Дмитрий их не любит) мне приятны, мне с ними весело, свободно, у нас общие интересы, общий разговор. И разве уж это так плохо, что я с ними встречаюсь? Честное слово, меня ни в чём предосудительном обвинить нельзя. Я боялась, что ты или Костя, рассказав об этих встречах дяде Мите, взволнуете его. Он поймёт всё это не так, как нужно, может поссориться с Николаем Васильевичем, а это повредит прежде всего ему самому, да и мне. Вот поэтому я вас и удаляла. Вот, Борис, всё, я рассказала тебе правду. Поверь, ни одному бы из родственников моего мужа я бы не сказала и десятой доли того, что сказала тебе, но к тебе у меня какое-то особое отношение…