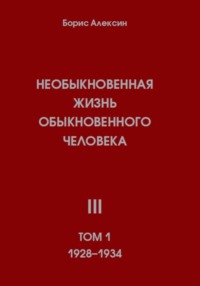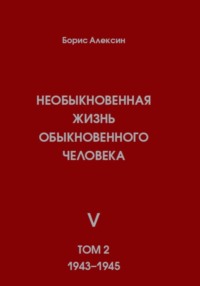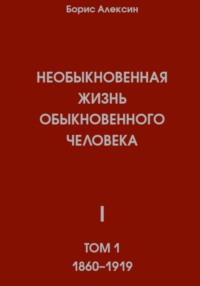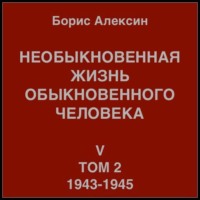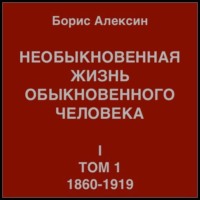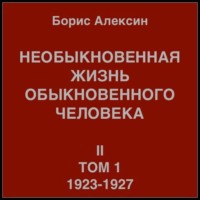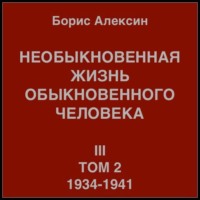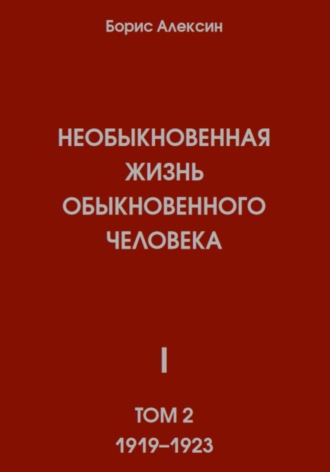 полная версия
полная версияНеобыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 2
Вот из этих-то миллиардов тётка и смогла выделить на костюм Бориса некоторую сумму, справедливо говоря, что он своим уходом за Манькой их вполне заработал.
Глава двенадцатая
Нам хочется вернуться немного назад и рассказать о том, как в этом, 1922 году Алёшкин впервые принимал участие в праздновании Октябрьской революции.
Пожалуй, только тогда, в пятилетний юбилей революции, празднование её происходило торжественно во всех городах и селениях России. До сих пор в стране это важное событие отмечалось только в Петрограде, Москве и крупных губернских городах; в более мелких ограничивались небольшими митингами. Стране было не до праздников: то свирепствовала Гражданская война, то распространялись голод и разруха, и только в этот год празднование происходило в более или менее спокойной обстановке. Да и в школах раньше о революции говорили как-то между прочим. В этом же году юбилейная дата отмечалась и торжественным собранием, и участием учащихся в демонстрации.
На Борю, как и на большинство его приятелей, демонстрация, в которой участвовали рабочие всех кинешемских фабрик, служащие учреждений, учащиеся школ, а также и парад гарнизона, виденный впервые, произвели большое впечатление.
Играли духовые оркестры. Под громкую музыку или под революционные песни, которые пели тысячи человек, было весело шагать в многолюдной колонне. День выдался ясный, хотя довольно холодный. Настроение у всех создалось праздничное. Все дома города впервые в этот день украсились красными флагами, их должен был вывесить на своём доме каждый домовладелец.
Во главе колонны тоже несли флаги и плакаты с написанными на них жёлтой или белой краской лозунгами. Содержание их Борису и многим его друзьям было не очень понятно, но они красиво выделялись над толпой, и это радовало глаз. Кроме того, в колоннах несли портреты Ленина, Маркса и Энгельса. Кстати сказать, о последних двух революционерах Боря в то время почти ничего не знал. В школах про них ничего не говорили, а брошюрки, продававшиеся в магазинах, ни Борис, ни его друзья не покупали.
Один из старшеклассников, недавно вступивший в комсомольскую молодёжную организацию, появившуюся на одном из заводов города, пытался объяснить своим младшим товарищам, кто такие были Маркс – лохматый бородатый старик, и Энгельс – тоже старик с большой окладистой бородой, чем-то напомнивший Борису икону Николая Чудотворца, но из его объяснений они поняли только то, что оба эти революционера были немцами и что Ленин у них учился.
Нельзя сказать, чтобы это объяснение особенно понравилось ребятам. Среди населения, а следовательно, и среди ребят, ещё существовало воспитанное царским правительством в период Первой мировой войны неприязненное отношение к немцам. Мальчишкам было непонятно, как это Ленин, такой замечательный человек (это мнение о нём уже господствовало, так как об этом говорили очень многие взрослые), мог в учителей себе выбрать немцев! Все решили, что Голубев, так звали вновь испечённого комсомольца, что-нибудь напутал, тем более что в школе он был далеко не на первом месте и авторитетом среди учеников не пользовался.
Гораздо больший авторитет среди них имел красивый парень, сын одного из крупных нэпманов Кинешмы – Женька Зильберман. Он был всегда хорошо одет, отлично учился, умел красиво говорить, неплохо танцевал, был спортсменом: играл в теннис, бегал на коньках. Все девчонки в школе по нему сходили с ума. Он курил, и многие из его одноклассников старались подражать ему. Но в откровенные беседы ребята с ним не вступали и, уж конечно, как-то инстинктивно поняли, что у Женьки расспрашивать про Маркса и Энгельса не стоит.
Так и осталось у этих ребят некоторое недовольство от праздника тем, что было непонятно, зачем в день русской революции носят портреты каких-то немцев.
Эти короткие заметки дают представление о том, что в 1922 году во многих школах PCФCP политическое воспитание учащихся находилось в очень плохом состоянии.
На торжественном собрании, которое состоялось в школе после демонстрации, новый заведующий школой сделал доклад об Октябрьской революции. Это был, пожалуй, первый доклад в Бориной жизни, в котором он услышал более или менее толковое изложение событий, происшедших в России в октябре 1917 года. До сих пор эти события, как в семье бабуси, так и у дяди Мити, фигурировали под названием «Октябрьский переворот», сущность которого ему пока никто ещё толково и не объяснял. Доклад нового заведующего выяснил многие непонятные до сих пор вопросы. До Орлова (такова была фамилия нового заведующего) школой, в которой учился Алёшкин, заведовал бывший директор реального училища, теперь он оставался преподавателем истории.
Орлов, сравнительно молодой, невысокий человек, ходил в полувоенном костюме и носил на груди, на красной шёлковой розетке, орден Красного Знамени. Говорили, что орден он получил, будучи командиром эскадрона, где-то в боях за Перекоп, в Крыму. Тогда же он был ранен, служить в армии не мог. До революции он был сельским учителем, его и назначили заведовать школой. Говорили, что он большевик. Это был первый большевик, которого Борис увидел в школе.
До сих пор большевиков ему приходилось видеть на митингах, на трибунах, где они произносили речи. Как правило, все они были вооружены, носили кожаные тужурки или солдатские шинели. Боря, например, не сомневался, что и чекист Казаков, когда-то пропустивший его к дяде, был тоже большевиком. Многие из них, казалось ему, да так, вероятно, было и на самом деле, люди хорошие, но какие-то особенные, непростые. Теперь же ему приходилось видеть большевика ежедневно и даже учиться у него. Орлов преподавал в Борином классе географию, и представлять себе обыкновенного учителя большевиком было странно.
Орлов имел чудное имя – Франтасий Иванович, немедленно переделанное учениками в Тарантас Иванович. Это прозвище так прочно прилипло к Орлову, что, кажется, навсегда за ним и осталось. Учитель он был хороший, уроки проводил всегда интересно, и этим быстро завоевал любовь и уважение учеников.
Вскоре выяснилось, что, кроме Голубева, в школе был ещё один комсомолец – Петька Исаев, воспитанник детдома им. Клары Цеткин – того самого, в который чуть было не попал Борис. Петька учился в одном классе с Борисом. Учился он посредственно, как комсомолец себя не проявлял. Узнав случайно от Петьки о его принадлежности к комсомолу, Борис решил расспросить парня, что это такое за организация, любознательный мальчишка всегда был рад узнавать что-то новое. Он услышал от Петьки, что в детдоме около года тому назад приехавшая молодая учительница организовала ячейку комсомола, что у них бывают собрания и что их теперь в детдоме уже семь человек. В своё время ещё в Темникове Боря знал о существовании детской организации скаутов. Отряд бойскаутов был даже при темниковской гимназии. Скауты носили красивую форму, которую им покупали родители. Они давали обещание помогать слабым, быть примерными в поведении и в отношениях со старшими. Борю в скауты не принимали: он был ещё слишком мал, a Юpa Стасевич вступать не захотел. Да Боря вскоре убедился и сам, что в скаутскую организацию действительно не стоит вступать. Мальчишки, которые там состояли, не только не защищали бедных и слабых, а, наоборот, при каждом удобном случае издевались над ними, особенно над теми, у кого не было сильных защитников, и Алёшкину с его друзьями не раз приходилось отбивать у скаутов какого-нибудь малыша, над которым они устраивали очередное развлечение. Скауты особенно распоясались после весенней революции. После Октябрьского переворота они попрятали свою форму и уже так безобразничать, как раньше, не смели.
Борис думал, что и комсомольцы – это что-то вроде скаутов, удивляло его только то, что у них не было формы. Он считал, что раз эта организация создана при новой советской власти, то, наверно, и поведение этих новых, «советских» скаутов будет другим. Сам он был бы не прочь вступить в эту организацию, но, во-первых, в школе её не было, и он не знал, где в неё можно вступить, а во-вторых, он не был уверен, что это вступление одобрят дядя и тётка. Но он решил всё-таки разузнать у Петьки про комсомол подробнее.
Однажды он спросил, какие вопросы обсуждались на последнем комсомольском собрании. Петька ответил:
– Сегодня говорили о Боге.
– О Боге? Что ж вы о Нём говорили?
– А то и говорили, что Бога нет. И что верить в Него не нужно.
– Ну, а если я хочу верить, тогда что?
– Нельзя! Из комсомола выгонят, – довольно угрюмо ответил Петя.
– Ну, а ты веришь?
– Да нет, теперь нет… – довольно неуверенно сказал Петька.
– Ну и дурацкий твой комсомол, коли так! – взорвался Борис. – Как это так?
Какая же это революция, если мне нельзя делать чего я хочу? Что же это за организация такая? Я такую не признаю.
Спор у них разгорелся, и дело могло дойти до кулаков, тем более что достаточно веских аргументов в защиту комсомола Петька привести так и не смог. На все возражения Бориса он однообразно твердил:
– По уставу комсомолец не имеет права верить в Бога.
В конце концов Борис в сердцах плюнул и крикнул:
– Ну и носись со своим комсомолом! А я как верил в Бога, так и буду верить!
Разговор происходил в классе во время перемены, свидетели его – многие одноклассники Бориса – почти все были на его стороне.
Так Алёшкин одержал победу над незадачливым комсомольцем. Но интерес его к комсомолу не пропал, а, пожалуй, наоборот, возрос.
Если Боря спорил с Петькой насчёт Бога, то, скорее, из-за упрямства, чем из-за того, что вера в Бога для него значила так много. В течение последних лет он задумывался: а действительно, существует ли Бог? И всё чаще и чаще сам отвечал себе: вряд ли. Пока вслух этого он всё-таки произнести бы не решился.
Будучи певчим в церковных хорах в Темникове и здесь, в Кинешме, мальчишка часто видел, как непристойно ведут себя в церкви взрослые певчие и сам церковный причт. Ему приходилось слышать, как в алтаре священник ругал псаломщика или дьячка самыми непотребными словами, когда те приносили на блюде после обхода верующих мало денег, обвиняя их в воровстве. Как грубо ругались при ссоре там же, в алтаре, служившие одновременно священники при дележе денег. Но Бог их не карал, не наказывал. Борис сам не раз обманывал тётку при покупках, совершаемых на базаре, и в других, более мелких делах, и она ведь всё-таки обманывала дядю, и тот обманывал её – одним словом, все кругом кого-нибудь да обманывали, а Бог, всевидящий и всезнающий, никого не наказывал. Одного этого было уже вполне достаточно, чтобы усомниться в существовании Его. Но желание быть независимым, стремление утверждать своё мнение было сильным, поэтому он так и спорил с Петькой.
После зимних каникул в третьем и четвёртом классах появился новый предмет, его преподавал тоже Тарантас Иванович. Назывался этот предмет политическая экономия. Уроки происходили раз в неделю. Перед началом преподавания в школе продали всем ученикам этих классов специальные учебники – маленькую серенькую книжку под заглавием «Политическая экономия в вопросах и ответах», автором этой книжки был Богданов. В ней содержалось 50 вопросов и ответов на них. Вопросы такого порядка: «Что такое труд?», «Что такое пролетариат?», «Что такое эксплуатация?», «Кого называют капиталистом?» и другие, на каждый вопрос тут же давался ответ.
Урок заключался в добросовестном заучивании ответов на каждый вопрос и умении пересказать его. Некоторые ответы, насыщенные иностранными словами, не вполне доходили до сознания учащихся, они заучивались механически. Эти первые, очень примитивные уроки политграмоты явились начатками какого-то политического воспитания и, несмотря на свою несовершенность, осветили Борису и его товарищам многие вопросы, которые раньше были совсем непонятны, а иногда и вовсе перед ними не возникали.
Правда, преломлялись некоторые ответы в их сознании довольно своеобразно и не всегда так, как этого хотели автор учебника и преподаватель.
В начале марта 1923 года в школу нагрянула комиссия из уездного отдела народного образования, решившая после знакомства со школой вообще принять участие в уроке политэкономии.
Алёшкин и на этих уроках, благодаря памяти и умению хорошо излагать мысли, тоже числился в первых учениках, поэтому учитель вызвал его. После того, как он бойко и толково ответил на поставленный преподавателем вопрос, взятый из книжки, тот, желая блеснуть знаниями своего ученика перед комиссией, предложил одному из членов комиссии задать этому учащемуся любой вопрос из пройденных ими, а к тому времени они уже прошли пятнадцать вопросов.
Тот, к кому обратился Тарантас Иванович, пожилой сутулый мужчина, одетый в подержанный простой костюм, очевидно включённый в комиссию как представитель рабочего класса, был и так смущён непривычной для него ролью проверяющего, а после предложения учителя смутился ещё больше, но, однако, не счёл возможным от него отказаться. Взяв из рук преподавателя книжку и полистав её, он спросил:
– Что такое эксплуатация?
Боря дал отчётливый, хорошо заученный ответ, почти слово в слово повторив то, что было написано в учебнике. Но спрашивающий в этих вопросах, очевидно, разбирался гораздо больше, чем можно было предположить по его виду. Смущение он уже успел преодолеть и, внимательно выслушав Борин ответ, остался им не очень доволен. Слишком уж книжными были слова мальчишки. Он задал дополнительный вопрос:
– Ну, а скажи, пожалуйста, у нас сейчас эксплуатация есть?
Вопрос был явно не по книжке. Боря напряг свою сообразительность и ответил:
– Конечно, есть!
Ответ ожидался не совсем такой, потому что и Тарантас Иванович и другие члены комиссии сделали круглые глаза. Задававший вопрос таким кратким безапелляционным ответом был тоже удивлён:
– Ну, кто же у нас и кого эксплуатирует? Кого, например, эксплуатирует крестьянин или рабочий? А?
Боря, заметивший по лицу учителя, что он в точку не попал, решил упорствовать на своём:
– Как кого? Крестьянин эксплуатирует свою скотину, землю, а рабочий машины, станки, да и работает он на фабрике, построенной другими…
– Ишь ты! – заметил один из членов комиссии.
Опрашивавший улыбнулся:
– Ловко ты вывернулся! Ну это, брат, не та эксплуатация, о которой нам знать нужно, так что ты ещё над этим подумай. Ну, а что не теряешься, за это молодец!
Вероятно, он продолжил бы свою мысль, но в это время прозвенел спасительный звонок. Председатель комиссии заметил Франтасию Ивановичу, что его ученики, хотя и усвоили курс политэкономии, в ряде простых вопросов разбираются слабо.
После этого случая Бориса долго дразнили эксплуататором, упрекая его в том, что он эксплуатирует книжки, тетрадки и парту, на которой сидит.
На одном из следующих уроков учитель попытался объяснить значение эксплуатации в советском государстве и возможность его существования, но объяснение у него получилось довольно путаное, и большинство учеников, в том числе и наш герой, существа дела так и не поняли. По-настоящему он разобрался в этом вопросе лет через пять, когда уже мог считаться политически более или менее грамотным человеком.
Примерно через месяц после этого случая с Борисом Алёшкиным произошла большая неприятность. Как и в прошлом году, он выполнял большинство домашних работ. В этом году стало легче: во-первых, он стал взрослее, а, следовательно, и сильнее, во-вторых, у него прибавилось опыта и сноровки в исполнении ряда дел, и наконец, в-третьих, самой работы стало меньше – не было свиньи. Борис получил возможность больше гулять, чаще бывать у Стакановых, дольше задерживаться в школе, тем более что Костя подружился с новой прислугой Надей и не бегал, как хвостик, за Борей.
Несмотря на относительную свободу, Борис тем не менее никогда не осмеливался уходить из дома без спроса и, конечно, до того, пока не будут сделаны все порученные ему дела. Поэтому всё возложенное на него он старался сделать как можно аккуратнее и быстрее.
В спешке ему случалось получить царапину или ранку на руке или ноге, иногда он смазывал её йодом, хранившимся в шкафчике спальни Анны Николаевны.
Однажды в субботу он очень торопился к Стакановым. Во время чистки хлева занозил палец на левой руке, кажется, третий; особого значения этому не придал, тем более что занозу ему удалось сразу вытащить, а крови почти не было.
Прошло несколько дней, палец не болел, но на руке появились красные полосы, а под мышкой болезненное уплотнение. Однако и это Бориса не взволновало, он никому ничего не сказал и продолжал всё делать как ни в чём не бывало.
Дня через два шишка под мышкой стала болеть очень сильно, да и вообще Борис чувствовал себя плохо. Вернувшись из школы, он хотел сказать об этом Анне Николаевне, но её дома не было. Как всегда, он наколол дров, принёс их к печке и собирался её растопить. Всю эту работу он выполнял как бы во сне, а когда уложил дрова в печку, то зажечь растопку уже не смог, присел около оставшихся поленьев и, очевидно, потерял сознание.
Дома, как на грех, не было никого: Надя и Костя гуляли в роще, Анна Николаевна ещё не пришла с дежурства, а дядя Митя вообще возвращался с работы не ранее семи часов вечера.
Очнулся Борис от прикосновения к голове чьей-то руки, и до его сознания дошёл встревоженный голос Анны Николаевны:
– Боря, что с тобой? Ты болен? – сама же подумала: «Господи, только бы не тиф, а то ведь и Костю заразит…».
Очнувшись, Боря вяло произнёс:
– У меня рука болит… – и опять закрыл глаза.
– Какая рука? Что ж ты до сих пор ничего не говорил! – спрашивала Анна Николаевна, но мальчик уже опять ничего не соображал.
Тётка подхватила мальчишку и отвела к кровати, там она сняла с него рубашку и пришла в ужас, увидев его распухшую покрасневшую руку и огромный нарыв под мышкой величиной с кулак взрослого человека.
Убедившись в безопасности болезни Бори для окружающих и удивившись его терпению, она стала думать, как бы ему помочь. Измерила его температуру, оказалось 40,5, тогда она позвонила мужу. Рассказав ему о Бориной болезни, о том, что мальчишка без сознания, что у него очень высокая температура, она просила привезти какого-нибудь доктора.
Дмитрий Болеславович, идя с работы, забежал по дороге в городскую больницу и попросил знакомую заведующую хирургическим отделением, доктора Лебедеву, зайти к нему на квартиру и осмотреть Борю.
Та пришла часов в восемь вечера и, осмотрев мальчика, заявила, что положение серьёзное, нужна срочная операция, иначе может произойти общее заражение крови, или, как тогда чаще говорили, развиться антонов огонь, и тогда для спасения жизни придётся отнять руку.
Такое заключение серьёзно напугало дядю и тётку, и они, конечно, согласились на любую операцию, лишь бы сохранить парнишке руку.
Через час приехала больничная подвода, мальчика одели, закутали, усадили в сани и в сопровождении дяди отправили в больницу. Там сразу же его отвезли в операционную, и Лебедева, заранее приготовившаяся, приступила к операции.
Чтобы понять, почему она поставила такой страшный прогноз, необходимо вспомнить, что это происходило в 1923 году, в провинциальном городе, где в распоряжении врачей для борьбы с такими осложнениями, как лимфаденит или лимфангит, явившихся следствием загрязнения и инфицирования даже очень незначительной раны, никаких средств, кроме своевременного вскрытия гнойника, не было, а тут время было упущено. Правда, и сейчас вскрытие такого нарыва может считаться одним из наиболее радикальных средств лечения этого заболевания, но мы можем одновременно применить целый ряд медикаментов, действующих и на возбудителя инфекции, и на иммунитет в целом. Тогда таких средств не было, и всё зависело от организма больного и от быстрейшего и наиболее радикального хирургического вмешательства.
Выполнение последнего осложнялось тем, что в распоряжении Лебедевой не было обезболивающих средств. Эфир, применяемый для общего наркоза, был настолько дефицитен, что его использовали только при больших полостных операциях, всё же остальное делалось без всякого обезболивания, и Борин абсцесс не составлял исключения.
Вследствие высокой температуры он находился в полубессознательном состоянии, и поэтому ни самого разреза, ни выхода первых порций гноя не ощутил, но когда врач засунула в рану палец в резиновой перчатке и начала им разрушать имевшиеся внутри перегородки, чтобы полностью очистить полость абсцесса, он поднял такой крик и стал так отчаянно брыкаться, что две дюжие санитарки, применяя всю свою силу, едва смогли удержать его на операционном столе.
Не менее болезненной оказалась и процедура вставления в рану тампона, смоченного в каком-то растворе. Всю руку замазали тёмной вонючей мазью (ихтиолом) и также, как подмышку, туго забинтовали.
Наконец, дрожавшего и смотревшего на всех испуганно умоляющими глазами мальчишку переложили на каталку и отвезли в палату. Там ему дали каких-то капель, после которых он тут же уснул.
Между прочим, испытанная Борисом боль навсегда врезалась в его память, и может быть, поэтому уже через много лет, когда ему приходилось самому оперировать людей, он всегда старался сделать всё возможное, чтобы боль во время операции была минимальной.
На следующий день температура значительно снизилась, боль в руке утихла, красные пятна и полосы стали исчезать. Осмотрев больного, Лебедева осталась довольна и сказала сопровождавшим её врачу и сестре:
– Вот что значит юность-то! Смотрите, как он быстро выкарабкивается!
Через несколько дней температура снизилась до нормы, у больного появился аппетит, и приносимые ему санитаркой кушанья он проглатывал в одно мгновение.
Узнав об этом от мужа, навещавшего племянника, Анна Николаевна послала ему кое-что из домашней еды – котлеты, жареную картошку, и даже сделала специально его самое любимое блюдо – винегрет.
Единственное, что омрачало Борино существование в эти дни, – это перевязки. Они были очень болезненны, причём особенно, когда в рану вставляли тампон, смоченный в гипертоническом растворе (бесцветная жидкость, название которой Боря не понимал, но возненавидел от всей души).
Дней через пять состояние мальчика позволило его выписать из больницы с тем, чтобы он ежедневно являлся для перевязок.
За время болезни Бориса, как потом говорила Анна Николаевна, она поняла, как много работы делал этот мальчишка. Без него большую часть этого пришлось делать ей.
Но пришёл конец и этому происшествию, и Борис, наконец, с радостью услышал от Лебедевой:
– Ну, крикун (она так его прозвала), мы можем попрощаться, больше тебе кричать не придётся. Всё зажило у тебя; смотри не доводи до этого в другой раз, такие дела не всегда благополучно кончаются.
Ещё несколько дней мальчик пользовался привилегированным положением, а затем приступил к выполнению своих обязанностей.
Впоследствии хирург, беседуя с Дмитрием Болеславовичем, удивлялась, что его племянник отделался так легко и счастливо. Она отнесла это за счёт крепкого организма мальчишки.
Глава тринадцатая
Вскоре после выздоровления ясным мартовским днём Боря возвращался из школы в особенно радостном и приподнятом настроении. Чем объяснить свою радость, он не знал: в школе прошёл самый обыкновенный день, его вызывали к доске, он получил за ответ «весьма», но это уже давно не радовало – это было обычным, даже обязательным. Довольно дружелюбно разговаривала с ним Ида Гершкович, но и это не удивляло: последнее время она стала относиться к нему гораздо лучше, может быть, потому, что предстояли весенние экзамены, и могла потребоваться его помощь.
День был очень хорошим. По дорожкам, тропкам и по проезжей дороге бежали ручьи, около них весело щебетали воробьи, на карнизе колокольни ворковали голуби, и даже карканье ворон и крики грачей, тучами громоздившихся на старых берёзах около собора, были какими-то по-весеннему радостными. Одним словом, всё было хорошо.
Боря мчался домой, перепрыгивая через ручьи и насвистывая какой-то весёлый мотив. Только появился он на пороге кухни, как его встретила сияющая Анна Николаевна и огорошила сообщением:
– Ну, Борька, у тебя большая радость – нашёлся твой отец! Вот телеграмма от него, он спрашивает, здоров ли ты и сможешь ли приехать к нему.
Борис был настолько оглушён неожиданной новостью, что несколько минут молчал. За эти мгновения перед ним промелькнуло множество вопросов. Он знал, что умерший несколько лет тому назад Николай Геннадиевич Мирнов, которого он в последние годы называл папой, не его отец; помнил, как в Темников проездом с фронта заезжал офицер, которого он тоже называл папой и который был его настоящим отцом. «Какой он? Как он ко мне будет относиться? Он столько лет не видел меня, но в то же время ведь это же мой настоящий, мой собственный папа». Ах, как трудно приходится в 15 лет, когда нужно решать, где жить, у кого. Ведь и здесь, в Кинешме, он уже ко всему привык, и к нему привыкли. В семье Пигута он уже стал полноправным членом, а что ждёт его там?