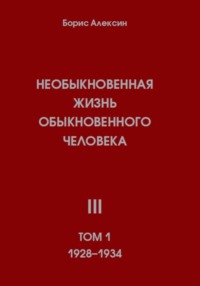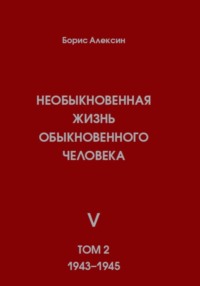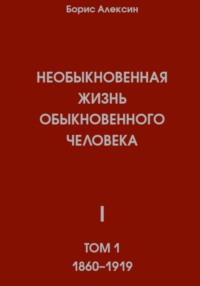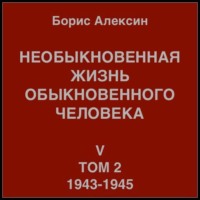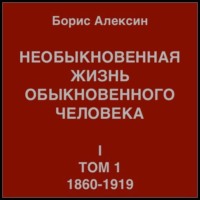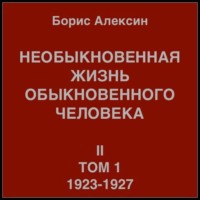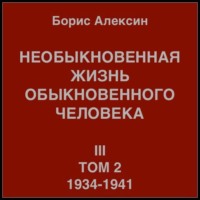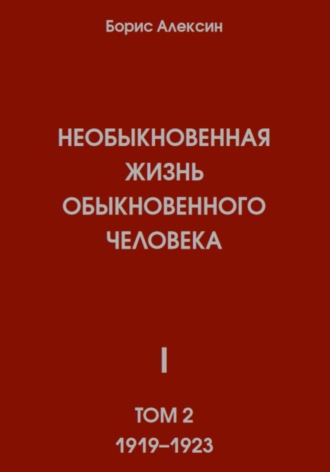 полная версия
полная версияНеобыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 2
Но настоящую учёбу у настоящего мастера довелось пройти только Боре. Сам дядя Митя времени для посещения занятий не имел и вынужден был заниматься самостоятельно, по самоучителю, купленному у знакомого букиниста. Это была тоненькая потрёпанная книжонка из серии «Как самому изучить ремесло, дающее возможность безбедного существования». До революции серия таких книжек широко рекламировалась в различных газетах и иллюстрированных журналах. В неё входили самоучители столярного, слесарного, скорняжного, портновского, сапожного и многих других ремёсел. В своих многословных объявлениях издательство, рекламируя эти книжки, уверяло простодушных читателей, что за 15 копеек (а книжка в то время стоила ровно столько) любой немного грамотный человек, овладев описанным в ней ремеслом, сможет не только хорошо зарабатывать, но прямо-таки разбогатеет. Конечно, эта была рекламная утка, но основы ремесла в брошюрах излагались сносно. Овладев ими, можно было стать если не богачом и не первоклассным мастером, то, во всяком случае, получить общее понятие о том или ином ремесле.
Вот по такой именно книжке доктор Пигута и начал усердно заниматься сапожным ремеслом, выкраивая для этого каждую свободную минуту. Борю решили отдать в учение к настоящему сапожнику. Но дядя знал, что ребята – ученики мастера в течение длительного периода не столько учатся, сколько работают на своего хозяина и его подмастерьев как мальчики на побегушках. Он решил быть более прогрессивным и, договариваясь с одним из знакомых сапожников, поставил вопрос о том, чтобы его племянник, за которого он согласился платить, с первых же дней начал обучаться ремеслу и не позднее чем через год умел бы самостоятельно выполнять хотя бы простую сапожную работу.
Сапожник вначале вообще от такого ученика отказывался. Зная Дмитрия Болеславовича ещё с дореволюционного времени и по старой привычке продолжая называть его барином-доктором, он никак не мог понять, зачем это барскому племяннику понадобилось сапожное дело, и, подозревая, что тут кроется какой-нибудь подвох, отказывался. Сдался он лишь после долгих уговоров. Было решено, что Боря будет ходить к сапожнику по средам и пятницам на один час, вечером после школы.
Мальчик от изучения нового ремесла не отказывался, хоть и не понимал, зачем это нужно. А не отказывался потому, что не хотел огорчать своего дядю, и потому, что он вообще любил узнавать всё новое.
Началось изучение ремесла. Сапожник, у которого мальчик учился, уже старый человек, имел помощников: инвалида, потерявшего обе ноги где-то в Восточной Пруссии ещё в 1914 году, и племянника, мальчишку одних лет с Борей. Последнего прислала сестра мастера из какой-то заволжской деревни для обучения «рукомеслу», как он рассказал Боре в первый же день знакомства.
Каким образом начать занятия с барчонком, как мысленно старик окрестил Бориса, он просто пока не представлял, и поэтому весь первый день своего учения Борис сидел и смотрел на то, как ловко справляются со своим делом старик и его помощник. Ему уже и самому захотелось также ловко и аккуратно тачать головки, подбивать подмётки и каблуки, как это делают его учителя.
На следующий учебный день, посоветовавшись с подмастерьем и решив, что «доктур» всерьёз решил учить племянника сапожному делу, старик придумал для него первый урок – сучение дратвы.
В те блаженные времена большинство сапожных работ не выполнялось, как сейчас, машинными нитками: все швы производились так называемой дратвой различной толщины, которую каждый сапожник изготовлял сам. Вот с изготовления этого вспомогательного, но совершенно необходимого материала Борис и начал своё обучение.
Вряд ли современные читатели знают, как делается дратва, хотя, быть может, слово и слышали. Попробуем рассказать.
Из клубка суровых льняных ниток нарезалось несколько кусков длиной около сажени. Количество их определялось желаемой толщиной дратвы. Одним концом их привязывали к гвоздику, вбитому в косяк двери, другие концы закладывались между ладонями, на которые надо было предварительно поплевать, чтобы нитки не скользили, и равномерным движением рук производилось скручивание ниток в одну сторону – это, собственно, и называлось ссучиванием. После 3–5-минутной работы получившуюся толстую нить туго натягивали и натирали варом, чтобы нитки лучше слиплись и были влагоустойчивы, затем воском, чтобы дратва лучше скользила в коже. Полученную дратву снимали с гвоздя, свернув восьмёркой, укладывали в специальную коробку или вешали на колышек, укреплённый над верстаком – низеньким столиком сапожника. Важно, чтобы на дратве не было узелков и неровностей, как их называли, ссучен.
В первый день, провозившись час, Борис сумел сделать более или менее приличной всего одну дратву, чем вызвал беззлобные насмешки своих учителей и довольно язвительные – своего сверстника, который эту премудрость уже давно одолел и за это же время сумел сделать около десятка дратв. Старый сапожник усмехнулся и, заметив, как Боря потирает горевшие от непривычной работы ладони, сказал:
– Ну, если ты так работать будешь, то и на хлеб не заработаешь. А что ладони дерёт, так это ничего, дома маслицем постным потри, отойдут. Ну, а наш труд не барских ручек требует, так что привыкай.
По правде сказать, Борины руки никак нельзя было назвать барскими. На работе во дворе и в хлеву им доставалось немало, но того, что он делал сегодня, ему делать не приходилось, и ладони после этого у него несколько дней болели.
Со следующего раза дело пошло лучше, а после трёх занятий Борис справлялся с сучением дратвы не хуже хозяйского племянника, чем вызвал одобрение учителя и дальнейшее продвижение в учении.
Следующим уроком явилось обучение всучиванию в дратву щетины. Сапожники того времени стальных игл почти не употребляли: они стоили дорого и часто ломались. Для протаскивания дратвы через проколотые шилом отверстия использовали свиную щетину. Щетина продавалась на базаре, и у каждого сапожника имелись её запасы, стоила она сравнительно дёшево. На неё шла даже длинная шерсть с загривка и спины крупной свиньи. Каждая щетинка представляла собой толстый упругий волос, благодаря своей гибкости и эластичности хорошо проникавший через тонкое отверстие, оставленное в коже или войлоке шилом. Нужно было только умело прикрепить к ней дратву. Боря скоро узнал, что это было делом нелёгким, требовавшим навыка и мастерства.
Для выполнения этого процесса один из концов дратвы немного рассучивался, концы входящих в него ниток обстругивались таким образом, чтобы свести на нет (как убедился Боря, это было удобнее всего делать, протягивая нитки между зубами). Наиболее тонкий кончик щетины, имевший в длину десять – пятнадцать сантиметров, расщеплялся на две или даже три части, полученные волоски соединялись с заострёнными концами ниток и сплетались вновь в одно целое. В результате получалась толстая нитка, оканчивающаяся эластичной и прочной щетиной, позволявшей протянуть её через любое тонкое и извитое отверстие. У дратвы, таким образом, заделывались оба конца. Тачание производилось сразу двойным швом: в отверстие, проделанное шилом, вставлялись с двух противоположных концов сразу две щетины. Протянув дратву и затянув её, сапожник сразу получал двухсторонний шов.
Это мастерство Борису тоже далось не сразу, но тем не менее через два с половиной месяца обучения он уже умел сучить дратву, всучивать в неё щетину, заготавливать деревянные гвозди (все сапожники тогда для прикрепления подошв пользовались деревянными гвоздями), вырезать из специальных войлочных пластин и из голенищ старых валенок подошвы и даже пришивать их к прохудившимся. Научился ставить на валенки и сапоги небольшие заплаты, делать набойки на каблуки и даже проводить обсоюзку валенок. И кто знает, не случись опять-таки непредвиденного обстоятельства, может быть, из Алёшкина получился бы настоящий, хороший сапожник. Во всяком случае, его учитель, видя, как быстро мальчишка усваивает ремесло, сулил ему на этом поприще хорошее будущее и постоянно ставил его в пример своему племяннику, которого Борис не только догнал, но и перегнал.
Самому Боре его новые занятия тоже стали нравиться, особенно когда он увидел, что из-под его рук выходят вещи, людям необходимые, и что они берут эти изделия с удовольствием. Очевидно, всегда, даже в самом беззаботном возрасте, а мальчишки в четырнадцать лет именно такими и бывают, приятно сознавать свою полезность людям. И хотя он немало трудился дома, не считал это работой на благо других, это было своё, семейное. А когда отдал какой-то старушке первые, самостоятельно подшитые им валенки и услыхал от неё слова благодарности, он был очень горд, хотя вознаграждение за эту работу, как и полагалось, получил его учитель.
Единственным неудобством было то, что, хотя на занятия в мастерскую он ходил в самой старой одежде, его белье, по-видимому, и кожа пропитывались специфическим запахом сапожной мастерской. Отдельные ученики в школе, особенно из нэпманчиков, заметили этот запах и стали над ним подсмеиваться.
Между прочим, не в пример темниковской жизни здесь Борис ходил в баню регулярно. Он по-прежнему недолюбливал эту процедуру, но, подчиняясь установленному распорядку, раз в две недели вместе с дядей ходил в баню при госпитале (что, конечно, устроила Анна Николаевна).
Но несмотря на такое регулярное мытьё, сапожный запах оставался и был настолько заметен, что даже его лучший друг Димка Стаканов и тот однажды сказал:
– Борь, что это от тебя так сапожником пахнет?
Конечно, другу он не только открылся, но даже признался, что это ремесло ему стало нравиться. В семье Стакановых хоть и отнеслись к этой затее скептически, но никто никаких насмешек над Борей себе не позволил.
Дмитрий Болеславович, начавший изучение ремесла сапожника самостоятельно, местом для своих занятий избрал кухню, отгородив себе уголок и поставив там приобретённый на толкучке сапожный верстачок, но очень скоро из-за запаха кожи и дёгтя оттуда был с позором изгнан. Он переселился в холодную кладовую, но там из-за холода до весны учение пришлось отложить.
Однако он всё-таки кое-чему научился: сумел починить Борины ботинки, свои охотничьи сапоги, Настины, а затем и Костины, туфли и даже получить одобрение результатов своей работы.
Кое в чём ему помогал и Боря: сучил дратву и колол из берёзового полена деревянные гвозди. Правда, с забиванием их у дяди Мити дело шло не очень хорошо; по мнению Бори, потому, что тот не слюнявил гвозди, как это делали его учителя. Они перед тем, как забить гвозди в подошву сапога, набирали их полный рот, а затем мокрые вставляли в проделанные шилом отверстия и одним ловким ударом молотка сразу же вгоняли каждый гвоздь в подошву или каблук. Боре казалось, что это происходило оттого, что обслюнявленные гвозди становились скользкими и легко входили в кожу. У дяди Мити гвозди не забивались сразу – они ломались, расплющивались, и, пожалуй, как следует ему удавалось забить лишь один из десяти. По всей вероятности, кроме слюней в этом деле нужен был и определённый навык, которого у дяди не было. На предложение Бори послюнявить гвозди он не согласился, хотя тот для этого предлагал свои услуги.
Вершиной сапожного творчества Дмитрия Болеславовича явилось шитьё туфель для жены. Он купил на базаре кусок хрома, снял с ног Анны Николаевны мерку, сделал по всем правилам, описанным в книге, выкройку заготовки и приступил к работе. Забегая вперёд, скажем, что, начав шить туфли в конце февраля, он закончил их к августу. Для прочности он поставил такую подошву, какую обычно ставят на мужские сапоги, и прибил её огромным количеством деревянных гвоздей. А так как все швы он делал ручным способом, то туфли получились неодинаковые по размеру, кособокие и, самое главное, неимоверно тяжёлые. Когда он их подарил жене, то та хоть и попыталась их поносить, но уже через час так набила ими ноги, что больше никогда не решилась их надевать.
Глава девятая
Вернёмся, однако, к тому событию, которое прервало, а затем и вовсе прекратило Борины занятия сапожным делом.
В конце марта, когда с крыш свесились длинные сосульки, сугробы осели, а дороги почернели, и по ним побежали первые ручейки, Анна Николаевна заболела.
Вначале все, включая и её саму, думали, что она просто промочила ноги и простудилась. Но её состояние стало быстро ухудшаться, температура тела поднялась до сорока, а выпитый ею аспирин не оказал никакого действия. Произошло это вечером после возвращения её с дежурства в госпитале. Дядя Митя был в командировке где-то в уезде.
Ночью Анна Николаевна начала бредить, громко кричать, разбудила этим Костю, тот, испугавшись, прибежал к Боре. Наскоро натянув штаны, Борис зашёл в спальню, зажёг свечку, и первое, что ему бросилось в глаза, что Анна Николаевна, скинув на пол одеяло, полуодетая металась по кровати, широко открытыми глазами смотрела куда-то в потолок и громко звала мужа, Николая Васильевича и Костю.
Прикрыв больную одеялом и уложив Костю к себе на кровать, он поднял на ноги Настю и отправил её в госпиталь, чтобы она немедленно привела какого-нибудь врача. Сам же, налив в таз холодной воды и взяв из буфета чистую салфетку, подошёл к больной. Та немного успокоилась, но в себя не пришла. Поставив таз на стул около кровати, Боря сел с краю и, намочив салфетку холодной водой, стал прикладывать её к горячему лбу тётки. Этот способ лечения он когда-то вычитал в одном из романов Жюля Верна и вспомнил, что и бабуся применяла его, когда у кого-нибудь из них – у него или у Жени появлялся жар.
Это примитивное лечение помогло. На несколько мгновений Анна Николаевна пришла в себя и, увидев Борю, не рассердилась, чего он боялся больше всего, а попыталась улыбнуться и почти шёпотом сказала:
– Убери отсюда Костю, у меня, наверно, тиф…
После этого она вновь начала бормотать что-то непонятное, затем замолчала и лишь часто и глубоко, с каким-то хрипом, дышала. Продолжая время от времени прикладывать холодную тряпку к пылающей голове тётки, мальчик со всё большим беспокойством и нетерпением ждал прихода врача или хотя бы возвращения Насти.
Вероятно, прошло не более получаса с момента ухода Насти, но Боре это показалось целой вечностью: он всё время боялся, как бы Анна Николаевна не умерла. То, что у неё, по-видимому, тиф, он понял и сам: в городе была эпидемия сыпного тифа, и много больных умирало.
Но вот раздались быстрые шаги в кухне, и в спальню вбежала Настя, а за ней и дежурный врач из госпиталя. Осмотрев больную, он подтвердил поставленный ею самой диагноз и сказал, что к утру пришлёт за ней лошадь для транспортировки в госпиталь. Оставлять больную дома нельзя: заболевание, судя по началу, протекает в очень тяжёлой форме, и она нуждается в особом уходе.
Он велел после того, как Анну Николаевну увезут, собрать всё её оставшееся бельё, личное и постельное, и прокипятить в щёлоке. Да и самим всем нужно бы обязательно вымыться в бане и хорошенько проверить друг друга, нет ли на ком-нибудь из них вредных насекомых. Врач деликатно не назвал их, но и Боря и Настя знали, что эти насекомые – вши. О том, что вошь переносит заразу (тиф), кричали многочисленные плакаты, расклеенные чуть ли не на всех заборах.
После того, как ранним утром тётку, закутанную в одеяло и укрытую шубой, на носилках вынесли на улицу, уложили в большие сани и увезли в госпиталь, Настя, Борис и Костя стали искать вшей друг у друга; к счастью, не нашли. На всякий случай все переоделись в чистое бельё, Настя принялась за стирку, а Борис вместо школы побежал в здравотдел. Там он нашёл одного из врачей, бывавшего иногда в доме Пигуты, и рассказал ему о болезни тётки. Мальчик попросил известить об этом дядю Митю, находившегося в волостном селе, с которым город имел телефонную связь. Известие о болезни жены дошло до него быстро, и уже на следующий день он вернулся домой.
Приехав, Дмитрий Болеславович попытался навестить больную, но его к ней не пустили. Медицинская сестра, ухаживавшая за ней, её подруга, сказала, что больная без сознания и врачи посетителей к ней допускать не разрешили. Кроме того, она сказала:
– У нас в госпитале не всё благополучно: хотя и стараемся поддерживать чистоту, но к нам привозят таких больных, на которых вши прямо кишат, и сколько мы не стараемся, всё равно почти ежедневно находим их и на больных, и на себе. Самое главное – нет мыла.
Доктор Пигута подобным объяснением не был обрадован, однако понял, что посещение жены в таких условиях будет и бесполезным, и опасным для остальных членов семьи и, прежде всего, для Кости. Так, почти до самой выписки никто из домочадцев у Анны Николаевны и не был. И лишь когда она начала передвигаться по палате, Боря с Костей приходили в госпитальный парк и, залезая на фундамент, через окошко разговаривали с ней.
Как только заболела тётка, то само собой получилось так, что все домашние заботы легли на Борины плечи. Дядя Митя работал, приносил жалование, иногда кое-какие продукты, а Боря должен был ходить на базар, руководить приготовлением еды для всех и для Анны Николаевны, ухаживать за козами, колоть дрова, топить печи, а кроме того, ещё ходить в школу и готовить уроки. Настя занималась уборкой комнат, мытьём полов, стиркой белья и уходом за Костей.
Боре приходилось вставать в шесть часов утра и ложиться в двенадцать ночи; понятно, что в таких условиях было уже не до занятий в сапожной мастерской. Оставляя эту учебу, он особого огорчения не испытывал. Так и не удалось ему сделаться сапожником, то есть «настоящим пролетарием», – подсмеивалась потом тётка.
В конце концов, всё в этом мире кончается – хорошо или плохо, но кончается. В данном случае всё кончилось хорошо: Анна Николаевна стала поправляться, кризис миновал, и недели через три с начала заболевания Дмитрий Болеславович получил разрешение перевезти жену домой. К этому событию пришлось произвести кое-какие приготовления.
За всё время нахождения в госпитале Анна Николаевна не смогла ни разу помыться: ванные не работали, а до бани, в которой мылся обслуживающий персонал, она, естественно, дойти не могла. Мыться в санпропускнике, в котором мыли, стригли и дезинфицировали поступающих больных, ей не разрешили. Поэтому первой заботой встречавших стала организация её мытья.
Теперь, когда почти в каждой квартире имеется ванная, горячая и холодная вода, может показаться смешным, что мы говорим о таком пустяке, как о каком-то важном деле. Но представим себе на минутку ту обстановку и поймём, что помыть больного человека дома было делом нелёгким.
В доме водопровода не было – надо было натаскать воды. Колодец замёрз, а до колонки, где вода продавалась за деньги, было около полуверсты. Боря и Настя носили воду из этой колонки чуть ли не полдня, затем надо было воду нагреть и разыскать где-то достаточно большое корыто или железную ванну, где бы мог поместиться взрослый человек. Ванну за солидную плату удалось арендовать у попадьи Афанасьевой. Чтобы нагреть воду, пришлось использовать все свободные кастрюли. Принесённое дядей Митей зелёное мыло, считавшееся самым действенным средством от вшей, наложили в стеклянную банку.
Анна Николаевна, поддерживаемая мужем, вошла в кухню. Костю Боря увёл в комнату, а Настя помогла больной снять верхнюю одежду. Вынесла её дяде Мите, который выхлопал её на снегу и оставил на ночь в амбаре. Тогда считалось, что мороз губительно действует на вшей.
Ещё до приезда больной Настя высказывала опасения Боре, как они сумеют отмыть волосы Анны Николаевны. Ведь у неё были густые, длинные, пышные чёрные волосы, из которых она делала огромную причёску. Настя сказала:
– Теперь там в этих волосах-то чёрт знает что завелось!
Она, конечно, не знала, что всем тифозным больным, вне зависимости от пола и возраста, в госпитале голову обстригают наголо, и очень изумилась, когда Анна Николаевна сняла косынку: вместо копны чёрных волос Настя увидела круглую маленькую головку, покрытую коротенькими, чуть курчавящимися волосами.
– Как у новобранца! – воскликнула она и даже всплакнула, пожалев волосы своей хозяйки.
Однако мытьё от этого только выиграло.
Вскоре Анна Николаевна уже лежала в своей постели, укрытая белоснежными простынями, и с дрожью отвращения вспоминала о серых застиранных простынях госпиталя, по которым нет-нет да и проползало противное насекомое. Когда она работала, то как-то не обращала на это внимания, тем более что работала она в хирургическом отделении, где всегда всё было значительно чище.
Ещё не успев лечь, она потребовала к себе Костю, да и тот рвался к ней так, что уже ни уговоры Бори, ни приказания отца на него не действовали. Наконец, он очутился на кровати возле своей мамочки и с увлечением принялся рассказывать ей о своих детских делах, которых у пятилетних ребят бывает так много и которые умеют понимать только их матери. На их лицах было написано столько радости и счастья, что у Бори, видевшего эту сцену, на глаза набежали слёзы. Чтобы скрыть их, он поскорее ушёл на кухню, ему предстояло помочь Насте в уборке кухни и разогреть обед, который он приготовил с большим старанием ещё вчера.
Занятый этими делами, он всё ещё видел перед собой счастливые лица Анны Николаевны и Кости. «Как хорошо, когда у тебя есть мама», – думал он.
По мнению Насти и дяди Мити, обед в этот день Борис приготовил замечательный. На первое он сварил жирные мясные щи. Мясо считалось довольно редким блюдом, и не только потому, что стоило дорого, а потому, что его на базаре часто не бывало совсем. Суп и даже щи чаще варили с воблой, снетками или какой-нибудь другой рыбой, получаемой в пайках, или с сушёными грибами. На этот же раз Борису удалось добыть сравнительно недорого большой кусок говядины. На второе (первый раз в своей жизни) он сделал картофельные котлеты под грибным соусом. Тётка такие котлеты делала раньше, но самостоятельно Боря сделал их впервые.
Как только всё было собрано на стол, Боря крикнул:
– Костя, иди руки мыть, сейчас обедать будем!
И к немалому удивлению матери, Костя оставил её, послушно соскользнул с постели и побежал на кухню мыть руки.
– Ну и ну, кажется, ты тут без меня совсем выдрессировал его, – заметила тётка Боре, принесшему в спальню кухонную табуретку и накрывавшему её в этот момент чистой салфеткой. Разложив на ней столовые приборы и поставив маленькую тарелочку с хлебом, отправился в столовую, чтобы налить щей. Костя уже сидел за столом. Наполнив его тарелку, Боря позвал обедать дядю, затем, налив щи для больной, отнёс их ей:
– Пожалуйста, кушайте, Анна Николаевна.
Та спустила ноги с кровати, сунула их в шлёпанцы и нагнулась над тарелкой.
Хлебнув ложку, она заявила:
– Щи превосходные! Да ты мне, наверно, всё мясо выловил.
– Нет-нет, – уверял Боря, – там ещё много осталось.
– Ну, тогда ладно. Иди ешь сам да корми своих едоков, – пошутила Анна Николаевна.
Но едоки за время её отсутствия уже привыкли к некоторой самостоятельности и обедали сами, в том числе и Настя, которая, налив себе щей, ушла на кухню. Боря тоже уселся за стол. Вскоре из спальни послышался голос больной.
– А добавки нельзя?!
Боря прямо подскочил от гордости и счастья: его щи понравились! Он налил Анне Николаевне ещё полную тарелку, которую она опорожнила с таким же удовольствием, но от котлет отказалась, и выпила только чай с молоком.
После обеда дядя Митя ушёл на работу, Боря и Настя убрали со стола и перемыли посуду. Затем он заглянул в спальню, где лежала больная, чтобы увести Костю, который так и не отходил от матери.
Анна Николаевна, увидев мальчика, подозвала его к себе.
– Ну-ка, Борис, заходи, заходи! Докладывай, как ты тут хозяйничал. Дядя да вон и Настя говорили, что ты прямо полностью меня заменил, – с этими словами она вытянула бледную похудевшую руку и ласково провела кончиками пальцев по Бориной щеке. Это было второе её ласковое прикосновение к племяннику за всё время его пребывания в семье дяди, оно было неожиданным и приятным… Борис покраснел и смутился.
Анна Николаевна вообще особой ласковостью не отличалась, даже Костю, которого она безумно любила, целовала и ласкала редко, и только в таких случаях, какой выпал в этот день. Поэтому скупая ласка по отношению к Боре была ему так дорога.
Заметив смущение мальчика, Анна Николаевна усмехнулась и сказала:
– Ну что, не такая уж я ведьма, как тебе меня расписали в Темникове? Ну да ладно, наплевать мне на их пересуды. Скажи-ка мне лучше, ты тут за хозяйственными делами ученье-то не забросил? Догонять, поди, придётся?
– Нет, нет, что вы, Анна Николаевна, – торопливо и в то же время гордо ответил Боря, – третья четверть у меня тоже вся на «весьма».
Он был тронут участием и заинтересованностью тётки. Дядя Митя об учении его никогда не спрашивал, может быть, потому, что был поглощён своими делами, может быть, потому, что был уверен в Бориных успехах. А вот Анна Николаевна его школьными делами интересовалась часто.