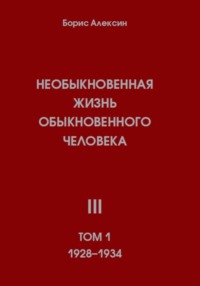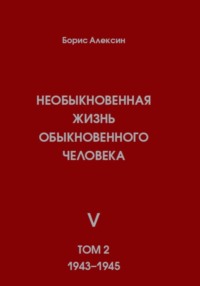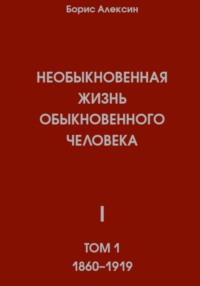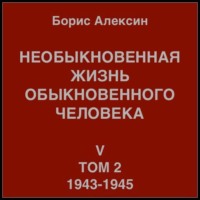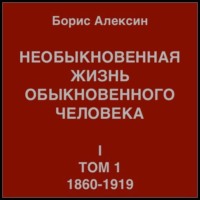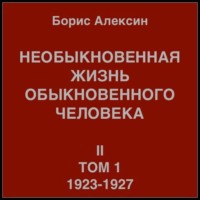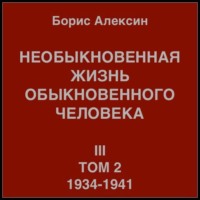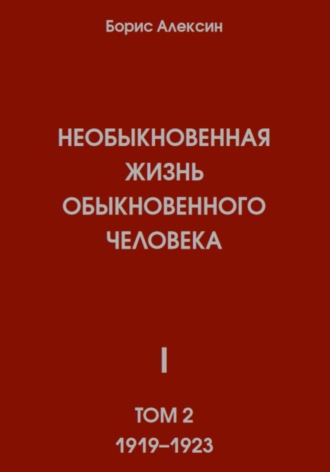 полная версия
полная версияНеобыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 2
Впоследствии Борис Алёшкин не раз задумывался, почему именно с ним, пятнадцатилетним мальчишкой, была так откровенна его тётка. Лишь через много лет, когда ей уже было далеко за 60, а ему перевалило за 40, он поверил, что она действительно относилась к нему совсем по-другому, чем к прочим родственникам дяди, и, видимо, это отношение он сумел завоевать у неё своим сердечным отношением к её сыну, трудолюбием и развитостью, намного превосходившую его возраст.
Многим может показаться странной такая исповедь молодой женщины перед глупым юнцом, но, однако, так было.
Закончив свой монолог, Анна Николаевна, взглянув на Борю, спросила:
– Ну, так как же ты поступишь? Будешь меня укорять в чём-нибудь или дождёшься приезда дяди и расскажешь ему о том, как его распутная жена здесь пьянствует без него? А?
Во время рассказа тётки Борис продолжал машинально тереть одну и ту же чашку. После её вопроса он точно проснулся. Почему-то он показался сам себе непорядочным. Ему было стыдно своих предположений и своего плана поведения, который тётка так хорошо предугадала. Он взглянул ей в глаза и совершенно неожиданно для себя сказал:
– Дяде Мите я ничего говорить не буду.
– Спасибо, другого ответа я от тебя не ожидала. Теперь, когда ко мне будут приходить гости, я тебя отсылать из дома не буду, если ты сам не захочешь. И ты сможешь убедиться, что всё, о чём я тебе рассказала, правда. Разве что из-за Кости – его иногда придётся всё-таки уводить. Он ещё мал и может что-нибудь наболтать дяде. Ну, да об этом мы ещё поговорим, а сейчас иди занимайся, я, наверно, тебя от уроков оторвала. Я сама доубираю посуду. Вон и Надя из спальни вышла. Что, уснул Костя? – обратилась она к Наде, протиравшей заспанные глаза. Укладывая мальчика, она и сама задремала. – Ты сегодня оставайся ночевать у нас, уж поздно, ляжешь спать в кухне на раскладушке.
Откровенный рассказ Анны Николаевны после длительного последующего размышления хотя и не заглушил у Бориса всех его сомнений, но тем не менее он до конца своего пребывания у дяди ни одним намёком, ни одним словом не выдал тайну между ним и тёткой о её встречах со своими знакомыми.
Его молчание вызвано было, может быть, не только тем, что ему не хотелось ссориться с тёткой, но и в то же время не хотелось огорчать дядю. Может быть, он молчал и потому, что подозревал, что дядя Митя знает об этих тайных вечеринках. Ведь соседи-то их видели и, конечно, при удобном случае могли сообщить о них дяде, а он просто предпочитал делать вид, что ничего не знает, чтобы избежать лишнего скандала, а может быть, и полного разрыва с женой. Тогда Борино вмешательство было бы смешным, ненужным и вредным, причём основной вред он причинил бы прежде всего самому себе. Анна Николаевна никогда не простит ему такого вероломства, придётся вновь скитаться в поисках пристанища. А здесь он уже обжился, привык, у него создалось совсем неплохое положение.
Вот так благополучие целой семьи иногда держится на какой-то тоненькой, незаметной и очень непрочной ниточке, причём продолжается это долгие годы.
Осень 1922 года оказалась очень урожайной, и даже со своего маленького огородика дядя Митя собрал много овощей. Конечно, кое-что приходилось покупать и на базаре, но в этом году это уже не составляло проблемы: базар переполнился продуктами, и только не хватало белого хлеба, но о нём как-то и не вспоминали – отвыкли, что ли.
В эту осень дядя Митя вновь затеял разговор о необходимости поездки в Рябково для заготовки овощей, но Анна Николаевна запротестовала:
– Больно уж дорого мне обходятся эти овощи, – насмешливо заметила она, – да и Бориса теперь отпустить никак нельзя, хозяйство оставить не на кого, так что, Дмитрий, пожалуйста, не выдумывай. Да ты ведь и без этого предлога, я-то уж знаю, прекрасно умудряешься проведывать свою блаженную сестрицу, да и племянницу не забываешь. Вот и расскажешь ему о них. А мы с ним на днях поедем на базар, когда привоз будет побольше, и всё купим здесь. Он отлично умеет торговаться, так что, я думаю, мы много не переплатим.
Разговор этот происходил за обедом, и хотя мальчишка и не прочь был прокатиться в Рябково и Кострому, но сделанное тёткой упоминание о его умении торговаться так польстило ему, что он решился тоже вставить слово:
– Да, можно купить всё дешево. Только в день большого базара надо идти попозже, к разъезду, тогда у тех, кто торопится уезжать, а всё ещё не распродал, остатки можно купить совсем по дешёвке, – по возможности солиднее произнёс он.
– Ну, вот видишь, как он всё хорошо знает! – заметила Анна Николаевна. – Завтра – как раз базарный день, жалование мы только что получили, вот завтра и пойдём.
На этом вопрос о поездке в Рябково закрылся.
Действительно, все необходимые овощи удалось приобрести сравнительно дёшево. Всё закупленное привезли и уложили в подготовленный Борисом подвал, где они, кроме того, вместе с дядей сделали деревянные лари.
В этом году с юга Поволжья на базар привозили много помидоров, поэтому они часто бывали в пищевом рационе, и Борису, впервые их начавшему есть, очень нравились.
Вообще этот год выдался урожайным, и базар был завален арбузами, дынями, а в конце лета и кукурузой. Кукурузу покупали не только в початках для употребления в пищу, сварив в солёной воде, что Борису нравилось, но и в зерне, которое мололи на кофейной мельнице и из этой крупы варили кашу; её Борис не любил, он предпочитал пшённую.
Кончились лето и осень, пришла зима. В этом году она задержалась, очень долго продолжалось бабье лето, было солнечно и тепло, затем начались дожди, которым, казалось, не будет конца. Всем не терпелось увидеть снег и почувствовать мороз.
Снег выпал, как всегда, совсем неожиданно, и почти сразу же ударил сильный мороз, на Волге образовался лёд – такой, что его с трудом разламывали буксиры, чтобы завезти в затон задержавшиеся в пути пассажирские пароходы, катера и баржи. Затон в этом году работал по-настоящему, в нём сосредоточилось несколько десятков судов.
Гуляя с Костей и со своими друзьями по госпитальному парку, Борис смотрел с горы на расстилавшийся у её подножия затон и видел, как команды судов готовят их к зимовке, как старательно укрывают брезентами, рогожей и просто досками металлические части, находящиеся на палубах окна; как обкалывают лёд вокруг каждого судна, чтобы предохранить корпус от сжатия, и как скоро, благодаря этому, вокруг каждого парохода образовались глубокие канавки.
Госпитальный парк переходил в рощу, которая затем соединялась с большим лесом. По этой роще Борис иногда гулял вместе с ребятами, конечно без Кости. Прогулки совершались на лыжах, подростки катались на них по оврагам, которые пересекали и лес, и рощу в различных направлениях. Верстах в трёх от города находилась группа деревянных бараков, обнесённых колючей проволокой. В прошлом году около этих бараков стояли часовые, которые строго окрикивали приближавшихся ребят и требовали их немедленного ухода. В этом году при первом же посещении этого места мальчишки обнаружили, что никакой охраны у бараков нет. Ворота открыты, их створки жалобно поскрипывали от ветра.
Из разговоров взрослых ребята знали, что в бараках размещался артиллерийский склад, очевидно, его теперь перевели в другое место. Очутившись около заброшенных бараков, ребята не могли упустить такой удобный случай, чтобы не обследовать их как можно подробнее.
Большинство окон в бараках, расположенных где-то под потолком, как в товарных вагонах, было выбито, двери раскрыты, некоторые сорваны с петель. У отдельных бараков от стен были оторваны доски наружной обшивки. Здесь до ребят побывали взрослые кинешемцы и кое-что позаимствовали для своего хозяйства.
Путешествие по этим заброшенным зданиям, расположенным в глубине леса, далеко от жилья, для ребят представляло большой интерес. Фантазия могла разгуляться, себя можно было вообразить где угодно. Кроме того, их не покидала надежда отыскать среди ворохов соломы и ящиков из-под снарядов, патронов и винтовок что-нибудь интересное и нужное в их ребячьих делах. Надежды оказались не напрасными.
Разгребая в одном бараке небрежно сваленный в углу ворох соломы, Борис наткнулся на какой-то ящик, он был забит гвоздями и оказался очень тяжёлым. Вскрыть крышку перочинным ножом не удалось – лезвие сломалось. Тогда ящик снова закопали в солому. Ребята с трудом дождались следующего воскресенья, когда, захватив топор, они смогли вернуться за своей добычей.
За прошедшую неделю высказывалось много самых различных предположений о содержимом ящика, однако действительности так никто и не угадал. Когда перерубили проволоку, опутывавшую ящик, и оторвали топором крышку, то увидели множество круглых жестяных коробок, вроде тех, в которых раньше продавалось какао. Все коробки были закрыты маленькими крышечками. Вытащив одну из коробок – довольно легко, но со страхом, открыли крышечку и увидели маленький фитилёк и около него надпись: «Зажечь здесь».
Долго раздумывали, стараясь понять, что же это такое, но так ни до чего и не додумались. Эти коробки не походили ни на один из виденных ребятами снарядов. Боря высказал мнение, что в этих коробках отравляющие газы, но это опротестовал старший Афанасьев, заявив, что газы применяются из баллонов. Боря вынужден был согласиться: во всех журналах, описывающих военные события, говорилось о применении газобаллонных атак, эти коробки на баллоны не походили.
Оставалось одно – попробовать на практике, что это такое, выполнить команду и зажечь фитиль. После долгих споров и препирательств Борис, наконец, добился права произвести зажигание.
Банку прочно привязали к перилам на крыльце одного из бараков, все ребята отбежали шагов на двадцать и легли в ямки, вырытые в снегу, Боря взял у Афанасьева спички (тот уже покуривал), зажёг приготовленную лучину и, далеко вытянув руку, поднёс огонёк к фитилю. Через несколько секунд, показавшихся всем чуть ли не часами, фитиль, потрескивая и разбрасывая небольшие искорки, загорелся. Боря бросился бежать к ближайшему ельнику и свалился между сугробами. Все с нетерпением ожидали взрыва. Почему-то всем казалось, что должен быть обязательно взрыв.
Прошло около полминуты, а фитиль как будто погас, огонька больше не было видно и потрескивание прекратилось. И вот, когда уже терпение у ребят лопнуло, и они стали высовываться из своих укрытий, раздался негромкий хлопок, и из коробки повалил густой чёрный дым, который благодаря безветренной погоде стал толстым чёрным столбом подниматься вверх.
– Газы! – закричали братья Афанасьевы, а за ними и остальные ребята. Но так как газы спокойно уходили вверх, они никого не испугали, осмелевшие ребята встали, подошли ближе к крыльцу, и тут Борис закричал:
– Да ведь это же дымовая завеса, как это я раньше-то не догадался! Ребята, давайте устроим настоящую завесу. Тащите из ящика ещё банки, зажжём прямо сразу штук десять, вот красота будет!
Через несколько минут на крыльце стояло десятка полтора банок с раскрытыми крышками, и ребята, вырывая друг у друга спички, торопливо разжигали немного отсыревшие фитили.
Вскоре все банки начали дымить. Запрятав ящик с оставшимися банками под крыльцом другого барака и оглядываясь на всё увеличивающийся дым, ребята вскочили на лыжи и помчались домой, чтобы посмотреть, как видна эта завеса издали.
Провозились они с этим делом почти дотемна, но, когда прибежали на свою Напольную улицу, всё же успели увидеть, как над рощей подымалось огромное облако чёрного дыма, медленно продвигающееся к Волге. Зрелище было внушительным и красивым. Ребята сгрудились у ворот и любовались им.
Мимо проходили и пробегали люди, слышались встревоженные голоса:
– Пожар! Пожар!
– Далеко ли?
– Где ж горит-то?
– Похоже, что это Дородновская фабрика (так, по привычке, называли одну из самых больших ткацких фабрик, находящихся недалеко от Кинешмы).
– Наверно, бандиты опять появились, – говорил кто-то.
Вскоре по улице по направлению дыма проехала на своих больших лошадях пожарная команда, и почти пробежал небольшой отряд красноармейцев. Наверное, военное начальство города определило, что дым идёт из того места, где оставались брошенные бараки, и, опасаясь того, что там могли быть и снаряды, отправили пожарных и красноармейцев.
Ребята поняли, что их затея вызвала в городе переполох, и если кто-нибудь дознается, что причиной его были они, то им, а возможно, и их родным, не поздоровится. Поэтому договорились ни о чём никому не рассказывать.
Целую ночь бродили по роще красноармейцы, разыскивая злоумышленников, но так никого и не нашли. Не нашли они и остатка спрятанных ребятами шашек, и те ещё не раз зажигали их, но всегда не больше одной, в этом случае дым был не очень заметен из города.
Это происшествие случилось в самом начале зимних каникул, по старой привычке называемых Рождественскими. Для Бориса они были особенными.
Учительница пения и музыки их школы решила силами учеников поставить музыкальный спектакль. Школа эта, размещавшаяся в здании бывшего реального училища, имела сцену, на которой находились даже остатки кулис и занавеса. При помощи учеников энергичная женщина привела всё это имущество в порядок и стала готовить с ними две музыкальные пьесы. В одной из них участвовали ученики первых трёх классов 2-ой ступени, а в другой – только последнего, выпускного четвёртого.
Первая пьеса – «Лесная сказка» рассказывала о том, как маленький пастушок (эту роль исполнял Коля Околов), заснув в лесу, видит чудесный сон: все цветы оживают, бабочки поют и танцуют, и даже грибы исполняют свой, немного неуклюжий, но очень весёлый танец под свою песенку. На поляне поют и танцуют светляки, жуки и стрекозы. Затем наступает утро, и заснувшего пастушка будят своими песнями пришедшие в лес за грибами и ягодами девушки. Все вместе они поют и танцуют, этим и заканчивалась пьеса.
Борису поручили роль предводителя группы грибов – старого бородатого боровика. Это была его первая роль на сцене, и поэтому он волновался и переживал. Правда, выступать Боре приходилось ещё и у бабуси дома, когда присутствовало несколько человек, знакомых и родных, а здесь выступление произойдёт на настоящей сцене, с занавесом, артисты будут загримированы, а в зрительном зале будут присутствовать ученики других школ и родители. Это не шутка! Видимо, поэтому Алёшкину запомнился этот спектакль и его роль в нём на всю жизнь.
Как в первой пьесе, так и во второй, имелось много интересных музыкальных моментов. Конечно, главным для Бориса был тот эпизод, в котором принимал участие он сам, хотя и длился он всего несколько минут. Выглядело это так. Вскоре после танца цветов и бабочек на лесной полянке появлялся отряд грибов. Его изображали человек семь мальчишек, из которых Борис был самым высоким, а для того, чтобы он был и самым толстым, спереди и сзади ему привязывали по подушке. Все грибы были одеты в белые балахоны без рукавов с прорезью для лица – это были ножки грибов, а на голову каждого надевалась большая шляпка, сделанная по форме того гриба, которого изображал тот или иной артист. На Боре была огромная шляпа тёмно-коричневого цвета соответствующей формы, ведь он изображал боровика, а к подбородку была прикреплена длинная борода из пакли.
Грибы, предводительствуемые боровиком, под звуки бравурного марша, исполнявшегося на рояле всё той же учительницей, выходили на сцену и, продолжая маршировать вокруг сцены, громко пели:
Сила мы лесная,
Сила мы грибная,
С нами гордость наша –
Славный богатырь,
Славный бородатый
Дед наш боровик!
При последних словах Борис выходил на середину сцены и важно потрясал бородой, а грибы, взявшись за руки, под новую музыку совершали вокруг него комичную пляску.
Борис запомнил почти всю пьесу, но в особенности, кроме своей роли, ему запомнилась песенка, исполнявшаяся бабочками:
Бабочки лёгкие мы, мотыльки,
Скуки не знаем, не знаем тоски,
Всё к огоньку мы готовы лететь,
Свет мы, увидя, готовы сгореть…
Эта песенка врезалась ему в память, потому что одна из бабочек – чёрненькая курчавая девочка 15 лет, дочь одного из самых богатых нэпманов Кинешмы – Ида Гершкович, очень живая и бойкая, своим поведением и привлекательностью сводила с ума всех мальчишек Бориного класса, в том числе и его.
Она, пользуясь этим вниманием, жестоко эксплуатировала своих поклонников, заставляя их решать за неё задачи, писать домашние сочинения и самым беззастенчивым образом подсказывать на уроках. Она сидела через парту от Алёшкина и, пользуясь тем, что он имел славу первого ученика в классе, использовала его чаще и больше других.
В «благодарность» за его помощь она надсмехалась над ним, его неуклюжим и не всегда чистым костюмом, но он молчаливо терпел.
Ида так относилась к своим одноклассникам потому, что считала себя уже взрослой барышней, достойной ухаживания более серьёзных людей, чем эти молокососы. Действительно, её не раз видели и на улице, и в кинематографе в сопровождении студентов и даже почти совсем взрослых мужчин. Все ребята это знали, однако их обожание не ослабевало. Когда во второй пьесе Ида, игравшая роль невесты, позволила своему жениху по-настоящему себя поцеловать, это всех её обожателей возмутило.
После спектаклей начались танцы, осмелился танцевать и Боря, втайне он надеялся, что ему удастся пригласить Иду, но согласилась с ним танцевать только одна партнёрша – худенькая некрасивая дочка учительницы русского языка, его одноклассница, да и то потому, как он впоследствии узнал, что она была влюблена в него. Вообще, он танцор был очень неважный, неловкий и достаточно неуклюжий.
Между прочим, почему-то в этом классе среди мальчишек и девчонок стало происходить что-то непонятное. Годом раньше мальчишки относились к девчонкам если и не презрительно, то, во всяком случае, безразлично, да и большинство девчонок на мальчишек внимания не обращало. Теперь же почти все были в кого-нибудь влюблены и под великим секретом сообщали об этом своим ближайшим подругам или приятелям, после чего, конечно, секрет становился достоянием всего класса и являлся причиной насмешек и ссор.
Впрочем, в этом возрасте нечто подобное происходит, наверное, во все времена, так что ничего особенного в этом нет.
Подготовка костюмов к спектаклю возлагалась на самих участников, точнее, на их родителей. Борис должен был позаботиться о своём костюме сам, просить дядю и тётку он не решался. Деньги у него всегда водились, переплётное дело ему давало постоянный, хотя и небольшой, заработок. Купить необходимую материю – белую для ножки и коричневую для шляпки – труда не составило, сумел он сделать из проволоки, найденной в сарае, и каркас для шляпки, а вот как из всего этого сшить костюм, просто не представлял. Надя ему помочь не могла, она сама кроме пуговиц ничего пришивать не умела.
Но вот однажды вечером, когда он после уроков сидел над развёрнутой материей и грустно размышлял, как с ней поступить, к нему подошла Анна Николаевна и спросила его, что он собирается делать. Борис сказал, а тётка улыбнулась и заявила:
– Эх, Борис, не знаю уж, что в тебе глубже сидит: пигутинская кровь или воспитание твоей бабуси… Ну почему ты мне ничего не сказал о своём затруднении? Ну, допустим, я бы отказала тебе в помощи, так ведь не съела бы тебя! Ну-ка, давай, что ты собираешься делать?
И обрадованный мальчишка рассказал тётке и про спектакль, и про затруднение с изготовлением костюма. И она не только не рассердилась, как он несправедливо предполагал, а взялась ему деятельно помогать, поставив только одно условие: чтобы она получила разрешение присутствовать на спектакле вместе с Костиком.
Учительница предупреждала участников, чтобы они пригласили на спектакль родителей, а Борис, конечно, даже и не подумал передать такое приглашение своим воспитателям, почему-то считая, что оно дома будет встречено насмешками и отказом. А тут Анна Николаевна не только не отказывается, но даже сама просит об этом! Он, конечно, с жаром обещал исполнить её просьбу и даже позаботиться о том, чтобы им достались самые хорошие места.
Под руководством тётки и при её активном участии костюм сделали задолго до представления, и он Борису, а впоследствии всем участникам и зрителям, очень понравился. И «ножка», в которую залезал мальчишка, и «шляпка», которую он надевал на голову, создавали впечатление настоящего гриба.
Во время шитья костюма Анне Николаевне пришлось довольно долго находиться в обществе Бори, и она обратила внимание на то, как несуразно он одет. Понимая, что на представлении и после него мальчик будет ходить уже не в этом маскарадном костюме, а в своей обычной одежде, а там будет находиться и сама Анна Николаевна, ей стало неловко за почти разлезшуюся рубашку и большие неуклюжие штаны, кое-как переделанные из дядиных. Она решила сшить племяннику костюм по его росту и размерам, тем более что у неё завелись довольно большие деньги, в получении которых ей оказал помощь и этот парнишка.
В одной из портновских мастерских, которых в Кинешме, как и лавок, открывалось всё больше и больше, Анна Николаевна заказала Борису тёмно- коричневый костюм – брюки и рубаху-гимнастерку навыпуск. Поэтому на вечере Борис не только выступал в театральном костюме, вызвавшем зависть у многих его партнёров, но и щеголял в новеньком, с иголочки, коричневом костюме, сидевшем на нём достаточно ловко. Правда, материей этого костюма было всё тоже бумажное сукно, но его это не смущало. Он, между прочим, надеялся, что Идка, увидев его таким нарядным, не откажется с ним танцевать.
Его надежды не сбылись. А впоследствии он узнал, что своенравная и избалованная, хорошо обеспеченная девчонка сказала о нём подругам:
– Ишь, наш Борька-то вырядился в новый костюм и вышагивает как петух, а того не понимает, что из такой материи сейчас порядочные-то люди себе не шьют: эта материя годится только для грузчиков!
С её мнением считались, ведь её отец держал чуть ли не самый большой в Кинешме мануфактурный магазин.
Нам хочется рассказать, откуда же у Анны Николаевны вдруг взялись сравнительно большие деньги. Слушайте.
Купленный поросёнок к Рождеству превратился в такую крупную свинью, что едва помещался в хлеву, почти не оставляя в нём места для козы. Уборка помещения представляла всё большую трудность, и Борис прямо-таки возненавидел эту проклятую Маньку. Кормить её становилось с каждым днём труднее, помои в госпитале давать перестали: кухонные работники сами развели свиней. Покупать корм на базаре стоило очень дорого, заготовленный силос кончался, и хозяйка поняла, что пришла пора реализовать свои труды.
Однажды, когда Борис вернулся из школы, он увидел в Костиной ванне разделанную тушу Маньки, в тазу – чисто вымытые внутренности её, а за столом – рыжебородого мужика, выпивавшего из стакана разведённый спирт и закусывавшего только что изжаренной печёнкой.
Между прочим, до сих пор Борис никогда не видел, чтобы спирт или водку пили прямо из чайного стакана, и увиденное поразило его больше всего.
После ухода резчика, как назвала его тётка, она вместе с Борисом на большом безмене перевешала мясо и сало. Оказалось, что мяса набирается около восьми пудов, нутряного сала – около пуда и более пуда подкожного сала, которое почему-то называли малороссийским.
Часть мяса и сала решено было посолить, часть заморозить, но всё равно оставалось более половины, которое следовало реализовать.
Дядя категорически возражал против какой-нибудь продажи, но Анна Николаевна настояла на своём. Затруднение возникло с тем, как это сделать? Тут в обсуждение вопроса вмешался Борис: он понимал, что ни тётка, ни тем более дядя сами на базар торговать мясом не пойдут, значит, эта доля достанется ему. А ему почему-то было стыдно сидеть на базаре и продавать мясо: «Что я, нэпман что ли, чтобы торговлей заниматься? А если ещё кто-нибудь из школы увидит, что я мясом торгую, так совсем засмеют! Нет, надо что-то придумать!», и он-таки придумал.
– Знаете, что, – обратился он к тётке. – У меня есть знакомый мясник, я попробую договориться с ним. Он, конечно, на этом деле заработать захочет, зато вы сразу все деньги получите.
Это предложение устроило Анну Николаевну, и она согласилась.
На следующий день тщательно укрытые мешками мясо и сало на санках были отвезены мяснику, у которого Боря каждый раз покупал мясо, и сданы ему для продажи. Мясник поступил по-божески, он взял с поставщиков только 10% комиссионных, то есть заплатил им за всё мясо и сало дешевле базарных цен, существовавших на этот день, на 10%. Конечно, на самом-то деле он заработал гораздо больше: деньги продолжали падать в цене, а мясо дорожать. Вероятно, через неделю он за это мясо выручил почти вдвое больше, чем заплатил. Но у него были возможности его придержать, а у Анны Николаевны их не было.
Как бы то ни было, но уже через день после этой продажи Боря принёс тётке несколько десятков миллиардов рублей. Конечно, на бумажках, принесённых им, миллиарды написаны не были, а были написаны просто рубли, но в примечании указывалось, что каждый рубль равен ста тысячам ранее выпущенных денег. Население поэтому и привыкло считать и производить все расчёты по старым дензнакам.