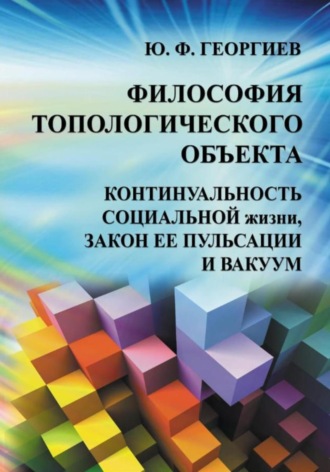
Полная версия
Философия топологического объекта. Континуальность социальной жизни, закон ее пульсации и вакуум
Иисус говорит: «сделаете женское как мужское». Он не предлагает «сделать мужское как женское». Бинарная оппозиция «женщина-мужчина» структурирована как односторонняя лента Мёбиуса, и вся она является женской. Женская сторона локально вывернута наизнанку, что порождает бинарную оппозицию женской женской и женской мужской сторон. Эта бинарная оппозиция асимметрична в пользу женской женской стороны. Женская женская сторона и женская мужская сторона противоположны друг другу как противоположностно, так и неслиянно-нераздельностно. Иисус фиксирует в своем высказывании асимметричную в пользу женщины бинарную оппозицию «женщина-мужчина» потому что он, очевидно, учитывает, что женщина рожает мужчину, а не наоборот.
Тема неслиянной нераздельности имеет чрезвычайное значение и для процесса познания мира. Бинарная оппозиция «истина-ложь» структурирована как односторонняя лента Мёбиуса и вся она является истинной. Истинное локально вывернуто наизнанку, что порождает бинарную оппозицию «истинное истинное» и «истинное ложное». «Истинное истинное» и «истинное ложное» противоположны как противоположностно, так и неслиянно-нераздельностно. Истина – это топологический объект, который существует в своей естественной модификации как истина, а в своей противоестественной модификации как истинностно-ложностное. Ложь – это топологический объект, который в своей естественной модификации существует как ложностно ложностное (как ложное, ведущее к ложному), а в своей противоестественной модификации существует как ложностно-истинностное (такое ложное, которое служит мостом к истинному). Истина и ложь противоположны друг другу как противоположностно (здесь действует закон исключенного третьего), так и неслиянно-нераздельностно (здесь действует закон включенного третьего). Наличие неслиянной нераздельности истинного и ложного предполагает необходимость существования тринарной логики.
«Трехзначная логика не нова, и впервые она была построена Лукасевичем в 1920 году. «В 1910 году, – пишет Я. Лукасевич, – я издал книжку о принципе противоречия у Аристотеля, в которой пробовал высказаться, что этот принцип не так очевиден, как считается… Дорогу мне указали антиномии, которые доказали, что в логике Аристотеля существует брешь. Заполнение этой бреши привело меня к преобразованию традиционных принципов логики… Я доказывал, что кроме предложений истинных и ложных существуют предложения возможные, которым отвечает возможность, как нечто третье наряду с существованием и несуществованием. Так появилась трехзначная система логики…» (Домбровский Б. Т. Львовско-Варшавская логико-философская школа (1895–1939). Львов. 1989. С. 25). Ян Лукасевич предложил трёхзначную логику, где возможны три значения: – истинно («да»); – ложно («нет»); – возможно («неопределённо»). В такой интерпретации произошло смешение двух бинарных оппозиций: истинное-ложное и возможное-невозможное. Яну Лукасевичу, скорее всего, не были известны феномены неслиянной нераздельности вообще и неслиянной нераздельности истинного и ложного в частности. (Примечание. «В классической логике высказываний оценки высказываний на истинность и ложность взаимосвязаны: истинность высказываний означает их неложность и наоборот. В четырехзначной логике Белнапа и в логике с операторами истинности и ложности такой связи между оценками высказываний нет. Допускаются высказывания ни истинные и ни ложные, а также одновременно истинные и ложные». – Из интернета).
С учетом феномена неслиянной нераздельности сторон бинарной оппозиции «истинное-ложное» правильным будет сказать, что кроме суждений истинных и ложных существуют также предложения истинностно-ложностные и ложностно-истинностные. Неслиянная нераздельность истинного и ложного иная, чем неслиянная нераздельность ложного и истинного, в первом случае истинность приводит к ложностному, а во втором случае ложностность приводит к истинностному. Ошибка бывает производной от истины, а истина бывает производной от ошибки. На длящемся пути к истине не обойтись без истинностно-ложностного и без ложностно-истинностного. Например, не обойтись в текстах без ошибочного гипостазирования предикатов. В геометрии не обойтись без ошибочного признания вырожденных (обнуленных) случаев существования треугольника как четырехугольника, одна сторона которого равна нулю, и т. д. и т. п.
Истина – это топологический объект (монада), который существует как в естественной модификации своего целого (истина от истины), так и в противоестественной модификации своего целого (истина от ложного). Вращение монады истины состоит из пребывания ее в естественной модификации (истины от истины) через посредство пребывания монады в своей противоестественной модификации (истина от ложного и ложное от истины) и воз-вращения из противоестественной модификации к пребыванию опять в естественной модификации (к истине от истины). Такой путь вращения-возвращения проходят: мировая философия, мировой капитализм, мировое искусство. Постмодернизм в философии, большевистский пролетарский капитализм в России, современное (contemporary art) искусство одновременно истинны и ложны, в них истинность и ложность присутствуют неслиянно нераздельно.
Ясно, что все бинарные оппозиции не только бинарны, но и тринарны, они не только исключают третье, но и включают третье. Такая трактовка бинарных оппозиций преодолевает извечное (из века в век) засилье во всей западноевропейской мысли (и особенно в философии) принципа бинарности, имплицитно заложенного в законе об исключении третьего. Пришло время признать неслиянную нераздельность закона исключенного третьего и закона включенного третьего. Иначе говоря, необходим переход к тринарной логике, при этом придется распрощаться с авангардистской утопией полного стирания бинарности бинарных оппозиций. Естественная бинарность бинарных оппозиций не исчезает, не стирается окончательно, а преобразуется внутри себя в противоестественную бинарность – в неслиянную нераздельность сторон, которая в свою очередь существует в естественной и противоестественной модификациях своей целостности. Противоположность сторон бинарной оппозиции существует как в естественной модификации своего целого (противоположность как противоположность), так и в противоестественной модификации своего целого (противоположность как неслиянная нераздельность). Увидеть, что неслиянная нераздельность сторон бинарной оппозиции не стирает бинарную оппозицию, можно взглянув на выворачивающееся в самом себе наизнанку одностороннее полностью лицевое кольцо Мёбиуса: лицевая лицевая сторона одностороннего кольца Мёбиуса и его лицевая изнаночная сторона неслиянно нераздельны в моменте выворачивания.
Увлечение мнимым стиранием оппозиционности бинарных оппозиций в философском мышлении реализовалось в рамках некоторого философского сообщества как особая программа, в которой не просто участвовал Деррида, но он оказался лидером. Михаил Ямпольский говорит об этом лидерстве: «Весть о смерти Деррида дошла до меня почти мгновенно. Мне позвонил товарищ: «Ты знаешь, два часа назад в больнице умер Деррида?» После этого звонки следовали один за другим. Возникло ощущение, что случившееся невероятно важно, что со смертью Деррида завершилась целая эпоха. Масса людей в разных странах переживали случившееся как что-то глубоко лично их касающееся. Такое же ощущение охватило меня после смерти Лотмана. Его исчезновение знаменовало что-то неотвратимое и окончательное – конец семиотики, конец Тарту, абсолютную невозможность вернуться назад, выражающуюся в конце определенного стиля мышления и определенного типа интеллектуальной культуры… Все мы, прошедшие тартускую выучку, знали, что языки культуры основываются на оппозициях… Деррида, однако, утверждал, что нет никаких оснований фиксировать бесконечную игру различий в привычных нам оппозиционных парах. Они помогали остановить эту игру, но, по мнению Деррида, сами они являлись наследием классической европейской метафизики (тема Хайдеггера), тысячелетиями формулировавшейся в парных категориях, таких, как субъект и объект, сущность и видимость, материя и дух и т. д. Наследием метафизических оппозиций Деррида назвал и семиотическую оппозицию письма и устной речи. Именно в контексте этой критики метафизической основы структурализма и родилась знаменитая деконструкция, первоначально выступавшая как критика «фоноцентризма» или «логоцентризма»… Одно дело, однако, постулировать и критиковать метафизичность оппозиций, и совсем другое – мыслить вне их, а тем более создать научную дисциплину без набора фундаментальных оппозиций. Эта неслыханной трудности задача была решена Деррида с блеском, но и не без серьезных потерь. Деррида видел старые метафизические оппозиции повсюду – даже у Хайдеггера, чья критика метафизики была так важна для него. Он говорил, например, что хайдеггеровское различие между бытием и сущим («онтико-онтологическое», как он выражался) – все та же метафизическая «отрыжка» прошлого. Решение, предложенное Деррида, имело две стороны. Первая – и наиболее поражающая воображение – касалась выработки им совершенно новых категорий, исключающих возможность мышления в оппозициях… Трудно было тогда предположить, сколь быстро такого рода стиль мышления станет для нас приемлемым. Недавний интеллектуальный бестселлер итальянского философа Джорджо Агамбена «Homo sacer» весь строится вокруг вынесенного в заглавие понятия, обозначающего неразличение между святостью и скверной. Все поздние работы Агамбена посвящены тому, что он называет «зонами неразличимости». хотя Агамбен не ссылается на Деррида, его работы были бы невозможны без радикальных экспериментов его предшественника… И вдруг на месте гарцующих вдаль оппозиций возникло что-то совершенно с ними несовместимое – неопределенная недифференцированность каких-то видимостей… До сих пор мне трудно избавиться от ощущения совершенной парадоксальности того результата, к которому привела деконструкция… Все более остро ощущается необходимость в преодолении самой деконструкции. Один из путей такого преодоления, как мне сейчас представляется, лежит на пути переосмысления понятия материальности. Когда-то философ признавался, что испытывает трудности с понятием материи и материальности, так как они слишком традиционно укоренены в метафизической оппозиции «материя/дух». Мысль Деррида функционировала в поле чистых различий и значений, где материальности не было места. Он и письмо превратил в своего рода идеальность, оторванную от авторства… Необыкновенная популярность Деррида в России, как мне кажется, мало связана с его интеллектуальным проектом. Он скорее оказался здесь созвучен общему культурному фону. Российская культура, на мой взгляд, сегодня характеризуется утратой внятных эстетических и этических ориентиров, своего рода состоянием тотальной неразличимости. Именно в ситуации, где Проханов и Сорокин перестают фундаментально различаться, где Зюганов и Явлинский вещают с одной трибуны, где советский гимн и двуглавый орел входят в общую государственную эмблематику, критика всяких значимых оппозиций с легкостью адаптируется обществом как своего рода анархистская вольница от любой дисциплины разума и морали. Старые оппозиции вроде «правого» и «левого» утрачивают тут смысл, воцаряется «зона неопределенности», а Деррида становится ее пророком» (Михаил Ямпольский. Завершение завершения // Сеанс. – 22.05.2006. – URL: https://seance.ru/articles/ jampolskii-derrida/ Подчеркнуто мной – Ю. Г.).
Михаил Ямпольский вынужден был признать, что деконструкция метафизических оппозиций завела Деррида в тупик: «Одно дело, однако, постулировать и критиковать метафизичность оппозиций, и совсем другое – мыслить вне их, а тем более создать научную дисциплину без набора фундаментальных оппозиций». Ямпольский обратил внимание на то, что проводимая Деррида деконструкция бинарных оппозиций оказалась частично реализованной, что стирание бинарных оппозиций в принципе все-таки возможно, при этом он ссылается на Джорджо Агамбена. Ямпольский говорит: «Недавний интеллектуальный бестселлер итальянского философа Джорджо Агамбена «Homo sacer» весь строится вокруг вынесенного в заглавие понятия, обозначающего неразличение между святостью и скверной. Все поздние работы Агамбена посвящены тому, что он называет «зонами неразличимости»… И вдруг на месте гарцующих вдаль оппозиций возникло что-то совершенно с ними несовместимое – неопределенная недифференцированность каких-то видимостей… До сих пор мне трудно избавиться от ощущения совершенной парадоксальности того результата, к которому привела деконструкция…».
Homo sacer (лат. «Святой человек» или «проклятый человек») – это фигура римского права: человек, который запрещен и может быть убит кем угодно, но не может быть принесен в жертву в религиозном ритуале. Михаил Ямпольский верит в то, что деконструкция оппозиции бинарности «святость-скверна» Агамбену удалась потому, что анализ бинарной оппозиции «святость-скверна» строится вокруг понятия Homo sacer, которое, по его мнению, обозначает неопределенную недиферренцированность святости и скверны. Если святость разместить на одностороннем (полностью лицевом) ленточном кольце Мёбиуса, вывернутом наизнанку, то на лицевой лицевой стороне ленточного кольца Мёбиуса расположилась бы святость святости, а на лицевой изнаночной стороне ленточного кольца Мёбиуса расположилась бы святость скверны. На ленточном кольце Мёбиуса в месте его выворачивания наизнанку было бы видно, что святость святости и святость скверны неслиянно нераздельны, было бы видно, что святость скверны – это продолжение святости святости в качестве ее изнанки. Агамбен не знает о существовании феномена неслиянной нераздельности, поэтому он сделал ставку на существование «зоны неразличимости» (или, по словам Ямпольского, зоны «неопределенной недифференцированности каких-то видимостей») между святостью и скверной. Деррида также не знает о существовании феномена неслиянной нераздельности. Он бы провел деконструкцию бинарной оппозиции «святость-скверна» таким образом, чтобы между сторонами этой бинарной оппозиции оказалась бы зона разли’чАе (то есть зона неопределенной дифференцированности). Противоположность сторон бинарных оппозиций – это топологический объект (монада), который существует как в естественной модификации своего целого (противоположность как противоположность противоположных сторон бинарной оппозиции), так и в противоестественной модификации своего целого (противоположность как неслиянная нераздельность противоположных сторон бинарной оппозиции). Деррида и Агамбен совершают «стирание» (декомпозицию) бинарных оппозиций в том смысле, что они фактически подменяют неслиянную нераздельность (о существовании которой они не догадываются) сторон бинарной оппозиции зонами неопределенной различимости (у Деррида) или неопределенной неразличимости (у Агамбена). Неопределенная различимость и неопределенная неразличимость суть рефлексии, каждое есть единство себя и своего иного, каждое есть целое, то и другое противоположны противоположностно и противоположны неслиянно-нераздельно. Неопределенная различимость у Деррида и неопределенная неразличимость у Агамбена вакуумным образом соотносятся с декомпозицией в картине К. Малевича «Женщина с вёдрами. Динамическая декомпозиция». 1912 г. (смотри о декомпозиции Малевича в гл.3).
Никакой нужды в «стирании» бинарных оппозиций до неопределенной различимости или до неопределенной неразличимости нет, но такое искусственное постмодернистское «стирание бинарных оппозиций» (как это происходит у Деррида и Агамбена) может иметь эстетическую провокативную ценность в том случае, когда «стирание бинарных оппозиций» приобретает метаметафорическую форму и форму антиномии или коана. В творчестве Деррида и Агамбена такого рода «стирание» бинарных оппозиций и происходит.
Михаил Ямпольский в своем рассказе о творчестве Деррида, разумеется, субъективен. И при этом он обращает внимание на ряд нерешенных, по его мнению, проблем, связанных с темой бинарных оппозиций. Ямпольский рассказывает: «Вернусь к Деррида. В 1963 году французский философ подверг резкой критике книгу своего «учителя» Мишеля Фуко «История безумия». Отповедь эта вызвала настоящий скандал. Что же не понравилось Деррида в блистательной книге Фуко? Прежде всего, мышление в терминах оппозиций. Фуко стремился показать, что европейский рационализм, культ разума, возникает в результате исключения безумия из культурной циркуляции. Существенным для Фуко был опыт Декарта, который обосновывал свой рационализм, cogito, как ему представлялось, негативно – через исключение безумия. Конечно, в этой логике легко увидеть оппозиционную метафизическую пару «разум»/«безумие». В результате обезоруживающе тонкого анализа Деррида показал, что у Декарта еще нет этой оппозиции. «Безумен я или нет, – суммировал Деррида Декарта, – cogito, sum». А это значило, что между мыслью и безумием нет оппозиции; более того, «безумие – это лишь вариант мысли» (Михаил Ямпольский. Завершение завершения. Подчеркнуто мной – Ю. Г.).
Можно обратить внимание (вслед за Михаилом Ямпольским) на путаницу, связанную с определением бинарных оппозиций и с их генезисом в мышлении человека. Фуко склонялся к тому, что безумие – это просто ошибка ума (мышления), следовательно, между мышлением и безумием нет оппозиции. Деррида полагал, что безумие – это необходимая черта ума (мышления), следовательно, между мышлением и безумием нет оппозиции. Ямпольский в свою очередь полагает, что ему за всем этим «легко увидеть оппозиционную метафизическую пару «разум»/«безумие». Деррида, утверждая, что у Декарта между мыслью и безумием нет оппозиции, высказал (сам того не ведая) истинностно-ложностное суждение в том смысле, что этой оппозиции и не должно быть потому, что возможна лишь другая оппозиция: прав Михаил Ямпольский, утверждая, что есть лишь оппозиция «разум-безумие». Ложностно-истинностное суждение Деррида, отрицающее наличие оппозиции между мыслью и безумием, освобождает место для исправления его ошибки, для признания наличия оппозиции лишь между разумием и безумием, существование последней оппозиции признается Михаилом Ямпольским и является общепризнанным. Разумие и безумие и в самом деле это две модификации мышления как топологического объекта (или монады), это две модификации декартовского когито. Если Декарт не знал (или не хотел знать) о существовании в его мышлении бинарной оппозиции разумие-безумие, это не значит, что она не присутствовала в его мышлении хотя бы в статусе ее отсутствия.
Мыслящий человек в обычных жизненных условиях может и не думать о записанной в его теле бинарной оппозиции разумие/безумие, однако она тем или иным образом в определенных ситуациях напоминает о своем существовании. Можно привести примеры думания в момент проживания человека в рамках бинарной оппозиции разумие-безумие: «Один шизофреник говорит: «Вот птичка щебечет в саду. Я слышу птичку и знаю, что она щебечет, но эти вещи так далеки друг от друга. Между ними какая-то пропасть, словно птичка и щебетание не имеют ничего общего друг с другом». Другой шизофреник не в состоянии «понять» настенные часы, то есть, прежде всего, переход стрелок из одной позиции в другую, и, в особенности, связь этого движения с работой механизма, «ход» часов» (примеры взяты из книги: Морис Мерло-Понти. Феноменология восприятия. Санкт-Петербург: «Ювента»; «Наука», 1999. С. 363). Мерло-Понти не комментирует эти примеры. Тем не менее, можно сказать, что у обоих шизофреников присутствует декартовское состояние «я мыслю, следовательно, существую». У обоих шизофреников в основе вакуума их мышления лежат вакуумные представления о внешнем и внутреннем, об истинном и ложном, разумном и безумном и т. д. и т. п. У второго шизофреника безумное в его мышлении подавляет разумное, однако разумность не исчезает в абсолютном смысле, она присутствует в превращенном виде, она оказывается изнанкой безумия. Без такой изнанки безумие невозможно! Например, второй шизофреник не может понять временной смысл «перехода стрелок из одной позиции в другую», но разумно понимает, что собственно переход стрелок из одной позиции в другую существует.
Безумие первого шизофреника в естественной модификации своего целого приводит его странным образом к теоретическому разумию, недоступному обычному человеку по причине того, что разумный человек находится (в нужное время и в нужном месте) в привычном для него разумии в его противоестественной модификации. Разумный человек доверяет врожденной ему перцептивной вере в то, что щебетание исходит непосредственно от птиц, эта вера по-своему теоретизменна. Теоретизменность этой веры, как я считаю, ошибочна. На самом деле от птиц непосредственно исходят лишь физические звуковые волны, которые телом слушающего их человека бессознательно преобразуются в то самое щебетание, которое он напрямую и слышит в самом себе от своего тела, при этом он принуждён своей перцептивной верой верить (теоретизировать), что щебетание исходит напрямую от птички. Безумие в шизофренике теоретизирует разумнее, чем теоретизирует разумие его перцептивной веры в то, что щебечет птичка, а не тело человека. Возникают вопросы: безумное мышление в шизофренике мыслит на основе бинарных оппозиций, или в его безумном мышлении еще нет бинарной оппозиции «разум/ безумие», или может быть эта бинарная оппозиция постоянно присутствует в его мышлении, но не осознается им? Если бинарная оппозиция «разум»/«безумие» не осознается, то может быть она действует бессознательно (вакуумным образом)? Деррида допускает возможность того, что у Декарта «еще нет этой оппозиции», то есть у человека эта оппозиция может быть и может не быть, эта оппозиция не обязательна, что она навязана ходом предыдущей истории развития Европы и в будущем оппозиционность бинарной пары «разум»/«безумие» будет философами искоренена и заменена на дерридарианское разли’чАе. Деррида, как и Фуко, склонны к авангардизму, они склонны «бодаться с дубом». Когда же речь заходит о несправедливости «исключения безумия из культурной циркуляции», о которой говорит Фуко, то Фуко ошибается: безумие справедливо включено в культурную циркуляцию в форме его культурного исключения из нее. В разумном поведении безумие присутствует своим отсутствием, это присутствие отсутствия безумия является изнанкой разумия. Фуко оказывается авангардистом, когда требует включения безумия в культуру на правах, равных включению разума в культуру.
Деррида в силу ряда исторических обстоятельств существовал в такой экзистенциальной ситуации, которая побуждала его к авангардистской акции – к поиску «насильственных» путей деконструкции (то есть стирания бинарных оппозиций до разли’чАе) оппозиционности метафизических бинарных оппозиций, что должно было (как если бы) способствовать понижению градуса оппозиционности в отношениях между людьми в обществе. Он превращал оппозиционность сторон бинарной оппозиции в усложненно-упрощенное (деконструированное) «мирное» различие («различие как европейская ценность»), в разнесенность, в диффе'рАнс. В данном случае важна точность в интерпретации понятия «деконструкция». Об этом говорит Н. Автономова: «Получается так: в советское время Деррида игнорировали или заушательски критиковали, а в постсоветское стали либо воспевать, либо дьяволизировать вместе с другими условными представителями «постмодерна», якобы ответственного за все нынешние российские беды. В массе своей такое нерефлексивное отношение преобладает и поныне, когда, например, деконструкция, сложное двухприставочное образование (в русском переводе «деконструировать» – это что-то вроде «рас-по-строить» или «разза-вязать»), воспринимается чаще всего эмоционально, по семантике первой приставки, как об этом свидетельствуют массовые примеры из Интернета, которые можно обобщить двумя фразами, тоже из Интернета: «наступают хаос и деконструкция, в просторечии именуемые злом…», и «деконструкция не переводится на русский язык»… (Наталья Автономова. Урок письма // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 5. См. также: Автономова Н. С. Философский язык Жака Деррида).
Н. Автономова предлагает учитывать семантику и первой, и второй приставки в понятии «деконструировать». В этом случае можно говорить о деконструкции как разборке метафизических сборок во имя создания постмодернистских сборок. Творчество Ницше служит одной из теоретических опор процесса изобретения разли’чАе. Деррида увлечен разборкой-сборкой ницшеанской темы появления новизны в процессе вечного воз-вращения. Деррида пишет: «Итак, мы сможем назвать разли’чАем то «активное», подвижное рассогласование различных сил и различий сил, которое Ницше противопоставляет всей системе метафизической грамматики всюду, где последняя управляет культурой, философией и наукой» (Различае

