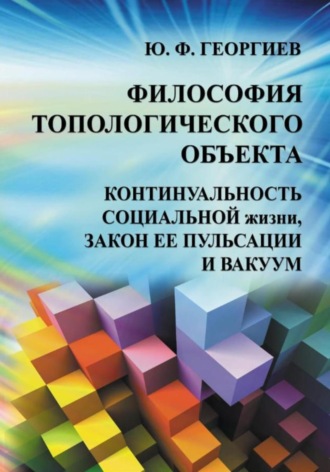
Полная версия
Философия топологического объекта. Континуальность социальной жизни, закон ее пульсации и вакуум
В действительности, раньше Ницше порождение различия (новизны) при круговом повторе увидел (и не понял) Гегель, который это зафиксировал в понятии рефлексия. Гегель писал, что рефлексия есть «такое движение, которое, будучи возвращенным, впервые лишь в этом возвращении есть то, что начинается, или то, что возвращается» (Гегель Г. В. Ф. Соч. – М.-Л. Т. 5. М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1937. С. 469). В моменте возвращения совпадают повтор (отождествление) и начинание нового (появление различия). Сообщить о совпадении повторения с начинанием нового не значит доказать (и показать зрительно) существование совпадения повтора с начинанием нового.
Осталось топологически (используя образ ленты Мёбиуса) на примерах объяснить и описать, как такое совпадение может происходить. Тождество – это топологический объект (монада), который существует в двух модификациях своего единства: как единство себя (тождество в силу тождества) и как единство себя и своего иного (тождество в силу различия). Первая модификация тождества является естественной (лицевой лицевой или при сокращении термина просто лицевой), а вторая модификация является противоестественной (лицевой изнаночной или просто изнаночной). Лицевая сторона и изнаночная сторона на ленте Мёбиуса неслиянно нераздельны, следовательно, тождество в силу тождества и тождество в силу различия неслиянно нераздельны, что можно на этой ленте увидеть и понять. Различие – это топологический объект, который существует в двух модификациях своего единства: как единство себя (различие в силу различия) и как единство себя и своего иного (различие в силу тождества). Первая модификация будет естественной (лицевой лицевой), а вторая будет противоестественной (лицевой изнаночной). Лицевая лицевая сторона и лицевая изнаночная сторона неслиянно нераздельны на ленте Мёбиуса, следовательно, различие в силу различия и различие в силу тождества неслиянно нераздельны, что можно увидеть только на ленте Мёбиуса. Таким образом, получается, что порождение различия в повторе объяснимо лишь при ссылке на лентомёбиусного типа неслиянную нераздельность различия и тождества. Ссылка Делёза и Гваттари на циркулярность или на кружение бинарных оппозиций в их ТбО ошибочна, нет нуля в циркулярном кружении, но есть нуль в выворачивании наизнанку (т. е. в неслиянной нераздельности) сторон бинарной оппозиции. Делёз и Гваттари говорят, что «нет ни негативных, ни противоборствующих интенсивностей» в нуле интенсивностей. Они ошибаются: в действительности в нуле осуществляется неслиянная нераздельность противоборствующих сил (сил повторения и сил появления новизны), само противоборство достигает апогея напряженности.
В теле без органов (ТбО) противоположные интенсивности существуют исторически накопленными, со временем противоборство между ними достигает наивысшего накала, в результате чего происходит лентомёбиусное неслиянно-нераздельное выворачивание наизнанку самого процесса противоборства как топологического объекта. Когда Делёз и Гваттари пишут: «Мы устали от дерева» (то есть они устали под давлением норм институционально оформленного и обязывающего классического философствования полагать доминантой устройства мира порядок и самотождественность или «древесность»), то в этот момент в их совместном «теле без органов» усталость от норм классического философствования выворачивается наизнанку – эта усталость оборачивается взрывом такой энергии, которой хватает на то, чтобы Делёз и Гваттари всю свою жизнь могли доказывать, что доминантой мироустройства является не порядок, а хаос и различение (а не отождествление). Усталость и взрыв энергии неслиянно-нераздельны. Усталость была лицевой стороной противоборства интенсивностей ТбО, теперь усталость становится изнанкой противоборства интенсивностей ТбО, а лицевой стороной противоборства интенсивностей Тбо становится авангардистская энергичность.
Само философское бытие Делёза и Гваттари обретает при этом форму конструкции лентомёбиусного типа, им приходится проходить свой путь, явно и неявно считаясь с тем, что лицевая сторона их философствования (признание доминирования корневища, хаоса) вынуждена всё равно согласовываться с изнаночной стороной их философствования (с признанием того, что дерево все-таки существует, хотя и занимает с их точки зрения подчиненное положение в отношениях с корневищем). Это видно на приведенном мной в тексте рисунке, изображающем постмодерниста, наивно думающего, что он всегда идет по ленте Мёбиуса лишь вверх головой.
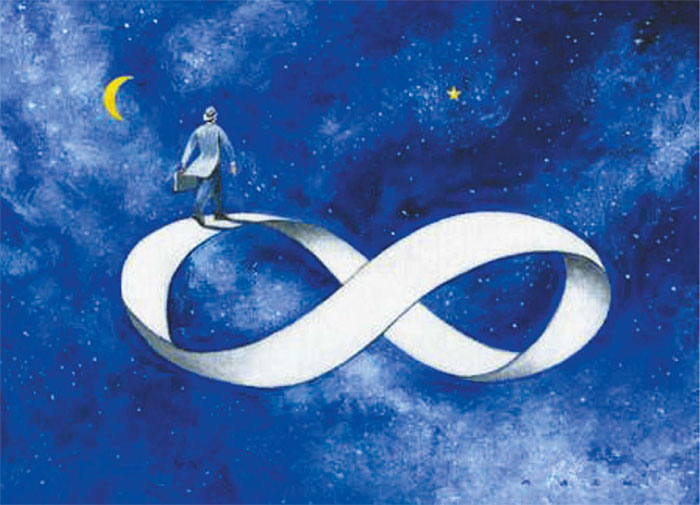
Обычно не догадываются, что изначально локально вывернутое ленточное кольцо односторонней ленты Мёбиуса может еще дважды быть вывернуто наизнанку, каждый раз это будет её тотальным выворачиванием наизнанку. История тотального выворачивания наизнанку ленты Мёбиуса это, конечно, собственно «лентомёбиус-ная» история, но она служит моделью существования и такого топологического объекта, как философия. История классической философии (как топологического объекта, как монады) это исторический процесс постепенной подготовки философии к будущей трансформации философии из ее исходно естественно-исторически возникшей модификации в последующую противоестественную (постмодернистскую) модификацию философии. При этом изменяется не только осознаваемая ткань философствования, но изменяется и сопутствующая ей вакуумная (бессознательная) ткань процесса философствования.
Можно прогнозировать будущее возвращение истории философии из противоестественной (постмодернистской) модификации в естественную неоклассическую модификацию своего существования, обогащенную опытом прохождения всего пути. При этом в каждой модификации истории философии соприсутствуют как лицевая лицевая, так и лицевая изнаночная стороны, которые в ходе истории философии как топологического объекта меняются местами. В противоестественной модификации истории философии роль лицевой лицевой стороны стала исполнять та сторона, которая в естественной модификации истории философии была лицевой изнанкой (была скорее потенциально, вакуумно созревающей, и менее реальной).
Философии, персонифицированной в живых и умерших индивидах, «идущей» по ленте Мёбиуса, чтобы пройти ее полностью, придется пройти ее трижды, каждый раз совершая «революцию» в своем коллективном теле без органов (ТбО). Во-первых, вначале потребуется пройтись по пути исходной («естественной-исторической») модификации ленты Мёбиуса и пережить со временем усталость от навязывающегося арьергардизма (принуждения и самопринуждения к строгому соблюдению всех канонов классического философствования). Во-вторых, истории философии, персонифицированной в живых и умерших индивидах, придется пережить «авангардистскую революцию», чтобы далее с восторгом пройтись по пути истории философии уже в ее противоестественной модификации и пережить со временем усталость от навязывающегося со временем постмодернистского арьергардизма (принуждения и самопринуждения к строгому соблюдению всех канонов постмодернистского философствования). И, в-третьих, философии, персонифицированной в живых и умерших индивидах и прошедшей по путям своей естественной и противоестественной модификации, придется, в конечном счете, пережить «поставангардистскую революцию» обратной тотальной трансформации (возврата) философии в свою естественную (исходную) модификацию, обогащенную историей всех произошедших трансформаций и связанных с ними исторических травм различного характера. Травматизм, связанный с переходом в новое состояние, и травматизм от расставания со старым состоянием встречаются на «одной площадке», формируется многосложная травматическая «чувствительность».
В истории философии XX–XXI вв. эта «травматическая чувствительность» связывается с появлением постмодернизма. «Постмодернизм – общий культурный знаменатель второй половины XX века, уникальный период, в основе которого лежит специфическая парадигмальная установка на восприятие мира в качестве хаоса – «постмодернистская чувствительность» (Hassan, 1980; Welsch, 1988, Ж.-Ф. Лиотар). Травматическая чувствительность в современной философии оказалась завязанной (сосредоточенной) на теме оппозиционности метафизических бинарностей: до сих пор остается неясным механизм этой оппозиционности, без знания этого механизма выбор «своей стороны» в бинарных оппозициях опирается на чувствительность веры, а не разума.
Авангардистский сигнал (импульс) от своего философствующего ТбО в определенный момент «Х» услышали постмодернисты Делёз с Гваттари: «Мы устали от дерева. Мы не должны больше верить деревьям, их корням, корешкам, мы слишком пострадали от этого. Вся древовидная культура основана на них – от биологии до лингвистики» (Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато. С. 26. Подчеркнуто мной – Ю. Г.). Усталость Делёза и Гваттари лентомёбиусным образом вывернулась взрывом энергии, необходимой им для написания новой книги и создания новой (корневищностной) культуры. Делёз и Гваттари пишут: «…мочковатая система на деле не порывает с дуализмом, с взаимодополнительностью субъекта и объекта, с естественной реальностью и духовной реальностью – единство не перестает перечить и противиться объекту, тогда как в субъекте торжествует новый тип единства. Мир утратил свой стержень, субъект не может больше создавать дихотомию, но он достигает более высокого единства – единства амбивалентности и сверхдетерминации – в измерении, всегда дополнительном к измерению собственного объекта. Мир стал хаосом, но книга остается образом мира, – хаосмос-корешок вместо космоса-корня. …В любом случае, книга как образ мира – какая пресная идея. …На самом деле мало сказать: Да здравствует множественное! …Множественное нужно создать…» (Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато. 1. Введение: Ризома. Подчеркнуто мной – Ю. Г.).
Во «Введении» к данному тексту я специально обратил внимание на феномен «увидеть – значит понять». Делёз с Гваттари в приведенном выше тексте назвали (сгруппировав) множество бинарных оппозиций, характеризующих мироустройство вообще, после чего они провели их переоценку и объявили, что в них самих, т. е. «в субъекте торжествует новый тип единства». Возникают вопросы: Единство мира одно или единств мира много? Каким должно быть тотальное единство мира, которое можно было бы увидеть – значит понять? Делёз и Гваттари сообщают о своем выборе книги: «Мир стал хаосом, но книга остается образом мира, – хаосмос-корешок вместо космоса-корня. …В любом случае, книга как образ мира – какая пресная идея». Философы (сами того не замечая) сообщают, что в их одной книге будут присутствовать в действительности две книги: своя книга, в которой мир представлен хаосом, и вторая книга «как пресная идея», в которой мир представлен одновременно и как «дерево», и как хаос («корневище-ризома»). Книга «как пресная идея», как можно догадаться, будет мощно (и скандально) присутствовать в воинственном статусе своего отсутствия. В их книге будет присутствовать в скандальном статусе отсутствия и такая чрезвычайно важная «пресная идея»: как выглядит тотальное единство мира вообще и каким его можно увидеть.
Философ и культуролог Г. Д. Гачев как-то мимоходом сказал, что существует «мир – как сплошная внутренность без границ»: «Мы автоматически повторяем: «Пространство и время», – обязательно вместе, как уж неразложимое сочетание, наподобие фольклорных сращений: “красна девица”, “белгорюч камень” и т. д. а вот Рене Декарт, например, в таковом сочетании не чувствовал надобности. Есть сплошняк протяжениявытягивания (extension), все плотным веществом залито из частиц с разным движениемкишением: ну да, в кишках бытие; мир – как сплошная внутренность без границ. Внутрь нас если опустимся, понадобится ли нам там пространство и время?» (Г. Д. Гачев. Европейские образы пространства и времени // Культура, человек и картина мира. М., 1987. С. 1).
«Мир – как сплошную внутренность без границ» можно увидеть и понять «по-человечески», если представить его в виде бесконечного шара как топологического объекта (монады), существующего в диаде его модификаций: бесконечный шар в единстве его евклидового и неевклидова видения. «Шар – геометрическое тело; совокупность всех точек пространства, находящихся от центра на расстоянии, не больше заданного. Это расстояние называется радиусом шара. Шар образуется вращением полукруга около его неподвижного диаметра. Этот диаметр называется осью шара, а оба конца указанного диаметра – полюсами шара. Поверхность шара называется сферой: замкнутый шар включает эту сферу, открытый шар – исключает. (Источник: Википедия. Подчеркнуто мной – Ю. Г.). Мир вообще как «сплошную внутренность без границ» можно представить в виде открытого шара (шара без границ), все параметры которого бесконечны.
Гегель определил бытие всякого сущего как «простое самоотношение». Самоотношение мира как сплошной внутренности без границ – это топологический объект, который существует в двух модификациях: как простое или как циркулярное (евклидово) само-отношение и как лентомёбиусное (естественное, неевклидовое, выворачивающееся в себе наизнанку) самоотношение. Моделью любого топологического объекта служит Ленточное кольцо Мёбиуса. Можно провести умозаключение: миру вообще как бесконечной сплошной внутренности вообще имманентно лентомёбиусное структурирование его самого и всего сущего в нем. Это умозаключение необходимо видеть, чтобы понять, во-первых, характер тотального единства мира, во-вторых, характер тотального единства всех бинарных оппозиций вообще, и в-третьих, что в мире бинарных оппозиций ведущую роль играет бинарная оппозиция «Внутреннее-Внешнее». Эта бинарная оппозиция асимметрична в пользу внутреннего. В качестве дополнения к умозаключению следует сказать, что само ленточное кольцо Мёбиуса по сути это своего рода шар или шаровидная монада, воплощенная в диаде своих шаровидных модификаций.
Мир как сплошная внутренность без границ (как тотальное бесконечное внутреннее) в своем бытии самоотносится, благодаря чему мир как бесконечное внутреннее оказывается одновременно (лентомёбиусным образом) внешним самому себе внутри своего бытия, последнее воспроизводится во взаимоотношениях локально сущего друг с другом. Между внутренним и внешним существует асимметрия в пользу внутреннего.
Единство мира может быть лишь одним, а Делёз и Гваттари называют два единства мира, из которых главным объявляется хаос, – такого рода математика оказывается в пользу субъекта мышления (Делёза с Гваттари), но не в пользу «пресной идеи» реального тотального единства мира. Делёз и Гваттари не фиксируют различие между тотальным единством мира и единствами внутри мира, философы упрощенно допускают возможность двух единств мира, одно из которых является «древесным» (порядком), а другое «корневищностным, мочковистым» (хаосом). По сути, названные ими два единства мира это две модификации топологического объекта – монады бесконечного мира как сплошной внутренности без границ, одна из которых является естественной (порядок), а другая оказывается противоестественной (хаос). Ошибкой Делёза и Гваттари является игнорирование (или непонимание) того, что все сущее в рамках тотального бесконечного мира взаимно тотально тождественно друг другу по той простой причине, что все это сущее принадлежит этому одному тотально единственному бесконечному миру как сплошной внутренности без границ. Такое тождество вещей абсолютно, его и следовало бы признавать философам в «своей книге» наивысшим или единственным (тотальным) единством мира. Метафора «дерева» не применима к бесконечному миру как сплошной внутренности без границ, не применима к абсолютному тождеству. Можно сказать так: непрерывность бесконечного мира абсолютна, а его дискретность относительна. Дискретность мира включает, кроме дискретности как таковой еще и относительную непрерывность дискретного. Лишь на основе признания абсолютного тождества вещей мира в силу их общей принадлежности бесконечно внутреннему миру становится возможным признание существования и сосуществования относительных единств – единства мира на основе тождества и единства мира на основе различия. Оба единства мира рефлексивны. Гегель писал: «При ближайшем рассмотрении оказывается, что оба, тождество и различие…суть рефлексии; каждое из них есть единство себя и своего иного; каждое из них есть целое» (Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 2. Москва, 1997. С. 40). Рефлексия сосуществования тождества вещей в силу их самотождественности (одно единство) и тождества вещей в силу их различия (второе единство) возможна лишь на основе абсолютного тождества всего сущего в силу принадлежности вещей одному и тому же бесконечному миру как сплошной внутренности без границ. Мир как таковой сам по себе просто существует, а все изменения, различения, отождествления происходят не с миром, как полагают Делёз и Гваттари, а внутри бесконечного мира как сплошной внутренности без границ – именно здесь следует искать следы предполагаемого «единства амбивалентности и сверхдетерминации».
Читатели книги, написанной совместным субъектом (Делёзом и Гваттари) превращаются в зрителей развертывающегося перед ними ролевого спектакля (в широком смысле), в котором субъект, «не желая отдаваться дуализму и дихотомии», тем не менее, отдаётся дуализму и дихотомии, нежелание и желание в данном случае, если размышлять по-гегелевски, «суть рефлексии; каждое из них есть единство себя и своего иного; каждое из них есть целое». (Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 2. С. 40). Делёз и Гваттари говорят на своем (ими полуспонтанным образом изобретенном) метаметафорическом языке, центральное место в нем занимает термин «ризома», который, к сожалению, обычно дан без перевода, и тем самым иностранное слово «ризома» переводчик невольно превращает для русского читателя в якобы настоящее собственно философское понятие и даже в философскую категорию, тем самым скрывается ролевая суть этого метаметафорического понятия. Сами Делёз и Гваттари ставят задачу избавления от излишней с их точки зрения логоцентричности, они намеренно вводят в свой текст парафилософскую (метаметафорическую) терминологию, когда, например, пишут о дуализме и дихотомии порядка и хаоса: «Любая ризома (корневище, по-русски – Ю. Г.) включает в себя линии сегментарности, согласно которым она стратифицирована, территоризована, организована, означена, атрибутирована и т. д.; но также и линии детерриторизации, по которым она непрестанно ускользает. В ризоме (корневище, по-русски – Ю. Г.) каждый раз образуется разрыв, когда линии сегментарности взрываются на линии ускользания, но и линия ускользания является частью ризомы (корневища, по русски – Ю. Г.). Такие линии без конца отсылают одни к другим. Вот почему мы никогда не можем отдаться дуализму или дихотомии, даже в рудиментарной форме хорошего или дурного. Мы создаем разрыв, проводим линию ускользания, но всегда рискуем обнаружить на ней организации, рестратифицирующие совокупность…» (Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато Т. 2. Глава «Ризома»». Подчеркнуто мной – Ю. Г.). (Примечание: с точки зрения тринарной логики Делёз с Гваттари философствуют в режиме неслиянной нераздельности истинного и ложного).
Отказываясь от дуализма и дихотомии в их естественном выражении, Делёз и Гваттари тем самым вынуждены «отдаваться дуализму и дихотомии» (поскольку отказ рефлексивен) в противоестественной форме, отказываясь признавать ведущую роль «древовидности» в устройстве мира, они, тем не менее, нередко вынуждены противоречить себе, например, признавать «мудрость» и лидерство именно за растением («деревом»), а не за ризомой из «дождей, ветра, животных и т. д.», окружающей растение (дерево) Они, например, пишут: «Мудрость растений: даже когда они существуют в корнях; всегда есть внешнее, где они создают ризому (корневище, по-русски – Ю. Г.) с чем-то еще – с ветром, с животным, с человеком (а также аспект, благодаря которому животные сами создают ризому, и люди тоже, и т. д.)». (Делёз Ж. и Гваттари И. Тысяча плато. Глава «Ризома»). Растение есть некоторое единичное содержание, которое исключает из себя множественное (ветер, животное, человека), включая их в себя и, говоря по-гегелевски, «… как раз – поскольку единичное содержание исключает из себя другое – оно вступает в отношение к другому, проявляется как выходящее за пределы самого себя, как зависимое от другого, как опосредованное этим другим, как внутри себя содержащее это другое. Ближайшей истиной непосредственно-единичного является, следовательно, его отнесенность к другому. Определения этого отношения к другому составляют то, что называется определениями рефлексии…» (Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа. Издательство социально-экономической литературы «Мысль». Москва 1977, С. 228. Подчеркнуто мной – Ю. Г.). «Единичное содержание» в данном случае это и есть внутреннее («дерево»), то активное первоначало, которое включает в себя множественное внешнее, исключая (дозируя) его: растение не становится ветром, животным, человеком.
Делёз рассуждает так, как если бы он ничего не знал о существовании гегелевских определений рефлексии тождества и различия. Похоже на то, что тема рефлексии, развивавшаяся Гегелем, осталась подзабытой, а саму диалектику Гегеля было общепринято интерпретировать упрощенно. В такой атмосфере и сформировалось некое «общее правило» мышления, с которым оказался категорически не согласен Делёз. Его несогласие имеет, конечно, и благородное политическое основание. Делёз говорит: «Согласно общему правилу, две вещи утверждаются одновременно лишь в той мере, в какой отрицается, подавляется изнутри различие между ними… Напротив, мы говорим об операции, согласно которой две вещи или два определения утверждаются благодаря их различию, то есть что они становятся объектами одновременного утверждения только потому, что утверждается их различие, ибо оно само утвердительно». (Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Глава «Ризома»).
Выражение «Мы говорим» следует сменить на выражение «Гегель говорил». Читаем у Гегеля: «При ближайшем рассмотрении оказывается, что оба, тождество и различие… суть рефлексии; каждое из них есть единство себя и своего иного; каждое из них есть целое». (Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Издательство «Мысль». М. Т. 2. С. 40). По Гегелю различие в одном отношении отрицательно, а в другом отношении утвердительно. На языке философско-топологического подхода можно было бы сказать, что различие – это топологический объект (монада), целостность (неделимость) которого существует, будучи воплощена в двух модификациях: в естественной и в противоестественной. В естественной модификации различие отрицает тождество вещей, а в противоестественной модификации различие утверждает тождество вещей. С точки зрения лентомёбиусной рефлексии лицевой (естественной) стороной различия является отрицательность различия, а изнаночной (противоестественной) стороной различия является утвердительность различия. Делёзу, как постмодернисту, полагается обращать внимание на противоестественную сторону различия, именно ее положено объявлять доминирующей или естественной, хотя в действительности противоестественное это изнанка (вырожденный случай) естества.
Внимание постмодернизма к противоестественному проявилось и в отношении к классическому категориальному языку философии, которому постмодернизм противопоставил свой метаметафорический дискурс как «свободный и вольнолюбивый». «Согласно Фуко, применительно к европейской интеллектуальной традиции правомерно говорить о двойственности восприятия культурой самого феномена дискурса. С одной стороны, пафосный рационализм Запада представляет дискурсу почетное место в иерархии культурных ценностей культуры: “Казалось бы, какая цивилизация более уважительно, чем наша, относилась к дискурсу?” (Фуко). Однако, с другой стороны, по Фуко, фиксируется далеко не однозначное к нему отношение: за демонстрируемой логофилией европейской классики скрывается “своего рода страх” перед дискурсом, т. е. реальная лого-фобия. Фуко усматривал в показательной логофилии западной культуры скрытое отторжение ею непредсказуемых возможностей дискурса, его потенциально неограниченной творческой креативности» (Грицанов А. А. «Логоцентризм» // Новейший философский словарь. Постмодернизм. Минск: Современный литератор, 2007).

