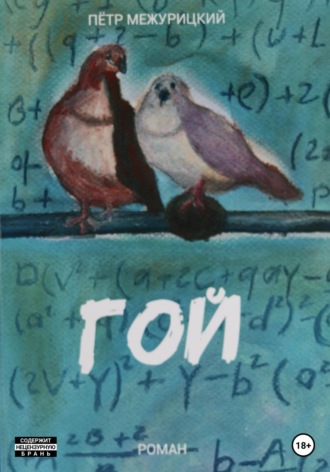 полная версия
полная версияГой
– Пока еще все, кроме совсем уж отъявленных инородцев, причисляют себя к потомкам ордынцев, – сказал Князев, – но пройдет немного времени, и большая часть населения Южной Пальмиры объявит себя потомками древнейшего здешнего населения, назвав его, допустим, черноморскими арийцами, для чего и черепа соответствующие услужливые археологи непременно откопают. Ты ведь занимался археологией? Что академической ордынской науке было нужно, то и откапывал, верно? Или и для фронды что-нибудь для нее подходящее тоже откапывал втихаря?
Осик не ответил. О том, что иногда приходилось откапывать, молчал не только он. А уж под какие теории подгонялись находки, или, наоборот, какие порой теории сочинялись под находки, и вовсе распространятся не стоило. Мир археологии и впрямь напоминал тот, который в своей проповеди много веков назад живописал пророк Мани. Черная археология соперничала и одновременно взаимодействовала со светлой, и это было меньшее, что можно было сказать про обе.
– А ты уже решил, кем тебе по этническому происхождению быть? Или так ордынцем и останешься? Причем не просто ордынцем, – добавил Князев, – но жидовствующим ордынцем?
– Жидовствующим – это точно, – не стал спорить Осик. – При любом раскладе жидовствующим.
– Неужели и при гитлеровском? Уж какие убежденные юдофилы при нем на раз-два обламывались. Например, годами сочиняет популярный и прогрессивный автор романы про добрых евреев, а потом в один день, еще не признаваясь себе, что возлюбил Адольфа, проникается благочестивыми католическими настроениями, владевшими душами и умами миллионов добропорядочных немцев, читавших иллюстрированный «Журнал для католического народа», когда этот самый Адольф еще только в начальной школе учился. И он уже, глядишь, не смеется над выпадами против либеральных и социал-демократических еврейских прислужников полувековой давности, но находит в них животворные черты здорового национального самосознания. Ах, Осик, Осик, что есть истина? Но я не об этом хочу с тобой поговорить, стоя на вершине Жеваговой горы, где, как скоро выяснится, приносили жертвы богам не какие-нибудь давно вымершие без следа неразумные, скажем, печенеги, но наши героические предки, славные черноморские арийцы, веками дававшие, чему, безусловно, найдутся неопровержимые научные доказательства, отпор дикой и невежественной Орде. Нет, стоя на вершине Жеваговой горы, хочу тебя спросить, что ты знаешь об обстоятельствах принятия иудаизма далеким славяно-дворянским предком друга твоего детства Пети Свистуна, ныне харизматичного лидера новообращенных в православие мирян, в том числе и не слабо начальствующих? Ты говори, не стесняйся, я ведь и сам из последних сил не обращаюсь пока.
Лицо Князева приняло зловещее выражение чекиста-дознавателя, ищущего правду путем заглядывания в душу собеседника. Глаза его сузились, и Осик почувствовал холодок на затылке, словно повеяло дыханием преисподней.
– Чего, чего? – спросил он.
– А ничего, – вновь принял посюсторонний человеческий образ Князев. – Просто хочу тебе сообщить, что за отпадение от православия и принятие иудаизма в нашей любезной Орде еще каких-то двести лет назад уличенного в этом сжигали на костре, когда костры инквизиции в Европе уже особо не разводили. Причем делала это светская власть без всякой оглядки на церковную. Так что наши просвещенные цари-батюшки и матушки-императрицы без лишних слов сжигали ордынских славян за переход в иудаизм, а предок Рыжего, перешедший в иудаизм, умер своей смертью, и как ни в чем не бывало был похоронен на еврейском кладбище. В чем тут фокус?
– Может быть, чудо? – предположил Осик.
– Не иначе, оно самое, – легко принял эту гипотезу Князев. – Но хотелось бы узнать, что за ним стоит, ведь в сущности именно для этого существуют и наука, и органы дознания. Или ты думаешь, что просто никто из настоящих патриотов того времени об этом деле не пронюхал и соответственно не донес? Но в том-то и дело, что архивы странным образом просто ломятся от доносов, словно кто-то нарочно десятилетиями заботился, чтобы эти документы сохранились и дошли до нас. А какие уважаемые люди среди доносителей были – от крепостных крестьян и до их хозяев! И, повторяю, никого не сожгли, даже в кандалы не закатали. Почему? Тебе не кажется, что кто-то имеющий такое влияние на власть, которому она не могла, а возможно, и не хотела противиться, предвидел обращение Рыжего?
– Разве вы не сциентист? – спросил Осик. – Уж больно ненаучно у вас получается.
– А ты ехидный, – заметил Князев. – Ладно, спускаемся на землю и будем считать, что боги этой горы слышали, о чем мы тут с тобой перетерли.
4.
В свой выходной день, а он у него был в йом ришон или, по-русски сказать – в воскресенье, – учитель государственной израильской школы для альтернативно одаренных детей Осик Фишер в шесть утра выехал из своего дома в Хоф-Акиве в район Большого Тель-Авива, на его крайний юг. Ехать предстояло не менее часа по почти пустой трассе. Задержись Осик с выездом на полчаса, и поездка превратилась бы в сущий ад длиной не менее чем часа на три. Воскресенье – в еврейском, он же исконно библейский, мире – это начало рабочей недели. В еврейском мире вообще нет дня, который бы назывался воскресным. Никакой поэтики в наименовании дней, но чисто бухгалтерский учет, как в Библии у Господа Бога: день первый, день второй, день третий – и так далее. Если бы Господь изволил сотворить мир не за шесть, а за, допустим, сто двадцать шесть дней, то у евреев был бы в неделе день сто двадцать шестой, в чем можно даже не сомневаться.
Однажды поселившись в Израиле, Осик не сразу осознал, а тем более привык к тому, что живет в стране, в которой нет такого дня недели, как воскресенье. Но дня с таким названием не было в этой же стране и у самого Иисуса из Назарета. И если бы, допустим, Иисус утром в йом ришон выехал из Назарета в Иерусалим на полчаса позже, чем обычно, то он несомненно попал бы в пробку. Разве что чудо или война. Кстати, и с тем и с другим Осик в Израиле уже сталкивался, причем неоднократно. А сейчас он ехал за Юлей в дальний пригород на юге Тель-Авива. С ней он познакомился два года назад в эфиопском ресторане «Пушкин», где вечерами по йом хамиши (пятый день Творения, когда были созданы рыбы и птицы, о чем большинство израильтян вынуждены в этот день автоматически вплоть до конца жизни вспоминать) собирались русскоязычные литераторы, чья память отнюдь не была отягощена такими библейскими подробностями.
В день их знакомства Осику было за пятьдесят, а Юле за тридцать. Именно в таком возрастном диапазоне и пребывали постоянные посетители еженедельных русскоязычных литературных тусовок в «Пушкине». Тем, кто помоложе, и тем, кто постарше, это было кому заведомо, а кому уже совершенно не интересно. А вот по утрам в йом ришон – в первый день Творения – Осик и Юля регулярно встречались друг с другом, потому что у Осика был выходной, а Юля вообще не работала. Дни эти проходили всегда по одной схеме: утром они встречались на дальней южной окраине Тель-Авива, где жила Юля, ехали на целый день в запланированное путешествие по стране, вечером приезжали в Хоф-Акиву в дом к Осику, который в силу очередных драматических семейных и социально-политических обстоятельств отнюдь не впервые в своей карьере жил один, и уже глубокой ночью кавалер отвозил даму домой, где ей, возможно, предстояли, а возможно, и нет, объяснения с супругом. Юля об этом никогда даже не заикнулась. И, наконец, под утро Осик возвращался к себе, выпивал чашечку кофе, принимал душ и отправлялся давать первый урок своим альтернативно одаренным ученикам.
В возрасте едва за пятьдесят все еще относительно спортивному мужчине такое можно было выдержать, хотя, как выяснилось чуть позже, что все-таки нет, нельзя. Но близкое общение с Юлей стоило и того, и, может быть, большего, о чем в посюстороннем мире достоверно судить вряд ли возможно. Сегодня они запланировали подняться на гору Тавор. За пятнадцать лет жизни в Израиле Осик ни разу не восходил на эту гору, хотя многажды в своих поездках на север страны проезжал мимо нее и, конечно, знал, мимо чего именно проезжает. И всегда более всего поражала относительная безлюдность этого места, хотя отдельно стоящее посреди сплошной равнины, будто искусственно созданное впечатляющее возвышение, раз в пять превосходящее объемом и ростом пирамиду Хеопса, само по себе выглядело чудом природы. Но мало ли у природы чудес. Нет, безлюдье удивляло своим полным несоответствием духовному значению, которое это место занимало в истории человечества. Где толпы просвещенных и просто любопытствующих туристов? Где километровые очереди паломников, медленно и терпеливо продвигающихся в ожидании своего часа приобщиться к святыне? Ничего подобного! Восходи не хочу, что Осик и делал многие годы, пускай не равнодушно, но все же проезжая мимо этой горы, спеша по другим делам.
Гору, конечно, увидели издалека, и Осик принялся рассказывать о событии, происшедшем на ней, что было совершенно напрасно. Никаких лекций Юля не воспринимала вообще, черпая информацию из каких-то ведомых ей одной источников. Может быть, она обладала способностью воспринимать вещи в себе, как это называл Эммануил Кант? В этом смысле и Осик, насколько он, конечно, был вещью, не представлял для Юли загадки. Однажды, в минуту близости, решив почему-то объяснить ему причину его привязанности к ней, она сказала: «Тебя на польскую кровь потянуло». От неожиданности Осик прервал ласки и пробурчал:
– Мало, что ли, польской крови? Или она вся в тебе?
Но он вспомнил Кристину, вспомнил, как не мог смириться с ее уходом из жизни, пока пещерный раввин, или, как его – катакомбный иудей – чуть не прямо запретил ему посещать еврейское кладбище чаще, чем раз в год.
«Это, выходит, что меня на еврейскую кровь тянуло», – всякий раз, когда ему вспоминались слова Юли про польскую кровь, думал он.
Перед крутым подъемом на гору Осик притормозил из опасения, что двигатель вдруг не потянет, пожелал себе и ему удачи, вздохнул, вцепился в руль и нажал на газ. Перед самой вершиной он свернул к православному монастырю. Выйдя из машины, открыл дверцу для Юли, но она отказалась выходить, изумив Осика.
– А нас не пустят, – пояснила она.
Ничего не сказав, он направился к воротам довольно мрачного со стороны сооружения. Убедившись, что ворота намертво заперты, он потоптался перед ними, и что делать, вернулся в машину.
– Таки не пускают, – сообщил он, – И никаких объявлений на воротах. Все сурово и гостеприимно, по-православному.
– А ты ехидный, – сказала Юля.
– Да что вы все «ехидный да ехидный»! – впервые в жизни на замечание, что он ехидный, вспылил Осик. – Обязательно раз в пять лет кто-то говорит, что я ехидный. И ты в этом смысле не в лучшей компании, Юля.
– Обиделся, – удивилась она.
– А что я был должен? Прийти в умиление?
– Мог бы и прийти, – сказала Юля, и Осик почувствовал, что она права.
– Я уже пришел, – примирительно сообщил он. – Ну что, поехали дальше? Вернее, выше?
На самой вершине горы находился францисканский монастырь и базилика безоговорочной красоты. Безоговорочной, потому что, раз ее увидев, представить себе это место без нее или что-то другое на ее месте было уже невозможно. Вся территория казалась рукотворным раем, как санатории ЦК КПСС, с той лишь разницей, что сюда мог зайти каждый желающий. Осику захотелось поделиться своим впечатлением, но Юли рядом не оказалось. Он растерялся. Как это возможно? Осик огляделся по сторонам и увидел фигуру Юли на краю обрыва. Она сидела, скрестив ноги и воздев руки к небу.
«Значит, вот оно – это место, – подумал он. – Именно оно – и никакое другое. Значит, Иисус прямо здесь внезапно воссиял неземным светом, и к нему снизошли двое, которых изумленные ученики приняли за Моисея и Илию. А что еще должны были подумать простые евреи? Русский интеллигент на их месте, наверное, решил бы, что это Толстой и Достоевский».
– Видимо, это были кореша Иисуса из космоса, – сказал Осик Юле, когда она вернулась к нему. – Другой версии у меня нет.
– Это были люди из будущего, – уверенно произнесла Юля.
– Из будущего? – переспросил Осик.
Такое ему в голову не приходило.
Они направились к базилике. Служба закончилась, и несколько разноплеменных туристов-паломников находились в храме.
«Что же это такое, их службы, – спрашивал себя Осик, – кроме того, что это, несомненно, магический обряд? Священник производит некие действия, мистически или хоть физически преобразуя материю. Но ведь дело не в этом. А в чем, в чем?.. – мысли его путались, и он попытался сосредоточиться, чувствуя, что нужно зацепиться за какую-то главную мысль. – Вот, вот. Во имя чего они это делают?». И стало понятно, что таки во имя того самого Иисуса. Вот такого, который, как всякий из некогда живших, существовал во плоти. То есть миллионы людей могут думать и врать о нем все, что им угодно, прямо на выходе из церкви, но сам магический обряд проводится именно ради него, такого, каким он когда-то был, каким бы он тогда ни был.
Рядом с автостоянкой перед монастырем Осик с Юлей сели за стол для путешествующих и развернули съестные припасы. Вдали показалась стая перелетных птиц. Март стоял на дворе, и пришла их пора возвращаться домой после зимних каникул. Вдруг над монастырем стая начала снижаться. Это было удивительное зрелище. Словно живое облако нисходило на землю. Птицы становились все крупнее и крупнее.
– Пеликаны, – завороженно произнес Осик, не отрывая от них глаз. – Чего это они?
Розоватое облако было уже прямо над головой, крупные птицы перестроились в цепь и в таком порядке сделали несколько кругов прямо над базиликой, после чего поднялись высоко в небо и продолжили путь.
Что должен подумать об этом Осик? Он и подумал то, что должен был.
– Понимаешь, – начал объяснять он Юле, – они давно не видели родины, и вот на их пути возник ансамбль привычной европейской архитектуры, и они спустились поприветствовать его, радуясь тому, что дом уже близок.
– Ну, Осик! – подняла на него глаза Юля. – Неужели ты не знаешь, что перелетные птицы во время пути иногда опускаются над знакомыми местами и делают несколько кругов, чтобы вожак сориентировался и откорректировал маршрут?
– Ну что ты? – заметив, что он насупился, спросила она. – Ну, хочешь, считай, что я неправа.
– Да нет, все в порядке, – успокоил ее Осик. – Спасибо, что не сказала, какой я ехидный.
5.
Накануне прихода к власти меченного правителя в Орде от края и до края установились самые мрачные настроения. Ходили слухи, что в местах не столь отдаленных расконсервируют сталинские лагеря. Люди в общении сделались подозрительны, не без оснований видя друг в друге потенциальных или действующих агентов Охранки. Антиамериканская и антиизраильская пропаганда достигла и даже превысила сталинские стандарты. Было объявлено, что в стране создан Антисионистский комитет ордынской общественности. Таким образом, антисионизм официально был провозглашен делом государственным. Такого не было ни при царях, ни при предыдущих генсеках. Такое было только в Германии при Гитлере. Ордынский народ затаился, не зная, что и думать, потому что через каких-то полгода после восшествия на престол застрельщик борьбы с сионизмом и уличных облав на прогульщиков генсек Юрий Владимирович Андропов перестал показываться на публике. Конечно, Охранка при таких обстоятельствах действовала по проверенному веками ордынскому кодексу номенклатурного самосохранения, выраженного емкой формулой «лучше перебдеть, чем недобдеть». Секретные агенты и добровольные помощники карательных за возможное отступничество органов получили инструкции сообщать куда надо не только, кто и что сказал, но и кто и что подумал, судя по выражению его лица. Но все-таки исчезновение верховного правителя из публичного пространства не стимулировало особого рвения на поприще беззаветной демонстрации преданности тем, чей вождь уже не представлялся всесильным.
В конце концов зловещий Андропов ушел из жизни, и впрямь не пробыв и полгода в публичном пространстве, что автоматически поставило вопрос о том, насколько Небесам была угодна его политическая линия на укрепление остатков сталинизма в стране. Решая, на какую же из идеологических химер делать ставку, правящая элита представила народу очевидно находящегося на последнем издыхании старца в качестве очередного верховного правителя Орды. Страна оказалась в ситуации духовного выбора, который и должен был определить ее будущее. Прямо как перед принятием или непринятием христианства тысячу лет тому назад или программы большевиков с их идеей строительства коммунизма семь десятков лет тому назад.
Что тут началось! С одной стороны, заметны стали люди мягко и ненавязчиво внушавшие массам, что Андропов и Брежнев были сионистами, целенаправленно подчинявшими Орду интересам жидо-масонов, с другой – не сдавали своих позиций сторонники исторического материализма и по возможности научной картины мира. А чуть больше чем через год страну возглавил Горбачев, человек с крупной отметиной в виде родимого пятна на голове. Конечно, это был знак, и что еще, если не знак. Но знак чего? Вскоре стало очевидным, что этот правитель явно ведет дело к либерализации и демократизации, то есть к развалу Великой Орды и ее капитуляции перед извечным соперником – свободным миром. Стран рабов и господ Орда в тот период боялась гораздо меньше, поскольку была самой мощной из них, хотя кое-кто из этого мира уже наступал ей на пятки. Так что же могло означать пятно, то есть отметина на голове Верховного правителя, взявшего курс на либерализацию? То, что либерализация и раскрепощение народных масс от Бога, или наоборот?
Сторонники курса на либерализацию, включая Осика, решили никакого внимания на родимое пятно генсека не обращать. А Орда между тем все более очевидно начала терять силовое влияние в мире. Добро бы это компенсировалась успехами на почве повышения уровня жизни. Но он почему-то вопреки всем убеждениям либералов в том, что свободная экономика приведет к быстрому экономическому расцвету, начал катастрофически падать. Простым людям жить стало хуже, чем при Брежневе и Андропове, были ли они сионистами или антисемитами.
«Это делают нарочно, чтобы дискредитировать свободу», – думал Осик, но как помочь делу свободы понятия не имел. Да и нуждалось ли дело свободы в его помощи? Простые и не самые простые ордынцы уже считали себя самыми авторитетными демократами в мире. «Да кто такие эти американцы, что они понимают в демократии, вот у нас демократия так демократия, и свободный мир наконец-то обрел подлинного лидера демократии в лице Великой Орды», – таким мало-помалу стало общественное самомнение большинства. А в Южной Пальмире в депутаты от демократов на выборы, Осик уже не различал в совет какого уровня, пошел Князев. Только по одному этому Осику легче, чем многим другим, можно было судить, под чьим контролем находится молодая ордынская демократия. Именно в дни предвыборной кампании к нему в кооперативный шахматно-шашечный кружок при клубе железнодорожников пожаловал Рыжий.
Они не виделись после похорон Кристины, со времени которых прошло почти десять лет. Формально социальное положение Рыжего не изменилось, он так и не приобрел никакого официального статуса. Но подвезли его к клубу на лучшей легковушке отечественного производства, дверь ему открыл водитель, облаченный в черный костюм, а в комнату, в которой проводил занятия Осик, он вошел в сопровождении охранника.
– Да, Осик, – сказал Петя, – паства меня охраняет, и не будем лицемерить, правильно делает. На меня уже было два покушения. И когда Георгий, – Рыжий кивнул на охранника, – выхватил пистолет, я ему не сказал, чтобы он вложил его обратно в кобуру. А если бы сказал, то мы бы сейчас с тобой не разговаривали. Как ты думаешь, Господь наш Иисус Христос знал, что у его апостола Петра есть при себе меч? А я тебе скажу – не мог не знать. Мог ли он не позволить Петру достать меч? Да запросто. Но он позволил. А для чего? Об этом мы с тобой, может быть, еще когда-нибудь поговорим. Так вот, значит, чем ты занимаешься? Что же в политику не идешь? Впрочем, уважаю. Эти сионистские прихвостни, конечно, развалят страну, но ненадолго. Уже грядет великое ордынское возрождение.
– А я всегда сочувствовал сионизму, – напомнил Осик. – Неужели забыл?
– Ты бы сесть предложил, – сказал Рыжий. – Может быть, сыграем? В шахматы, в шашки? Я не смущаю твоих учеников?
Но учеников он, конечно, не смущал, зная, что его визит производит на них самое благоприятное впечатление.
И хотя Осик не был непосредственно учителем шахмат, но будучи директором кооператива шахматных учителей, позволить себе проиграть Рыжему на глазах у детей он не мог. Не то чтобы речь шла о жизни и смерти, и он бы точно не стал стреляться от позора в случае поражения, но наверняка бы уволился, а поди найди теперь денежную работу.
– Вам мат, товарищ гроссмейстер, – через четверть часа гробовой тишины произнес Осик. – Еще партию?
– Нет, спасибо, – отклонил предложение Рыжий, – я и так уже взял грех на душу. Слаб человек. Спасибо, Господи, что не дал мне выиграть.
– Спасибо, Господи, что дал мне, – подхватил Осик и тут же услышал:
– А ты ехидный.
– Настолько ехидный, Петя, что не побоюсь сказать, – Осик сделал паузу. – Как бы, Петя, антисемит не убил в тебе православного националиста.
– А-а-а-а, – обрадовался Рыжий, – так это твои теории? Попадалась мне самиздатовская статейка, что, мол, антисемитизм – это на самом деле сатанинский вирус истории. Мол, дьявол, подобно вирусу, не имеет собственной полноценной природы, которую может дать только Бог, и поэтому существует, используя жизненные силы подлинного организма. И, значит, антисемитизм, внедряясь, скажем, в церковь или в национальное движение, существует под их именами. И вот уже то, что называется Церковью Христовой, не церковь, но антисемитская контора под именем церкви, а немецкое национальное движение, которое возглавил Гитлер, подменив его антисемитизмом, решает уже не немецкие национальные задачи, но некие антисемитские, которые ведут Германию к гибели. Мол, и Орду антисемитизм под видом национализма ведет к гибели. Так это, выходит, ты напридумывал? А что ж не крестишься, чтоб стать настоящим православным, а не антисемитом под видом православного? Глядишь, Орду и спасешь.
– Я не очень-то люблю Орду.
– Ты погляди, что это делается! Человек сам признается в своей ордынофобии, – Петя поднялся со стула, сказал:
– До свиданья, дети! Учитесь хорошо.
В дверях обернулся:
– Да, Осик, Орда Ордой, а мама очень просит тебя зайти. Поторопись, пожалуйста, потому что она уже умирает. Когда за тобой машину прислать? Мне и самому интересно, зачем ты ей понадобился. Понимаешь, не очень-то я верю, что она просто попрощаться с тобой хочет. Хотя, и это тоже. Так, когда машину прислать?
– Хоть сейчас, – сказал прибитый новостью Осик. – Меня тут есть кому заменить.
– Тогда едем.
В машине они не проронили ни слова. Да и ехать было минут пятнадцать от силы. Так, Осик вновь оказался в доме на проспекте Мира, где бывал и в детстве, и в юности. Анну Самуиловну трудно было узнать, Рыжий предупредил, что она уже не поднимается с постели.
– Давай я все-таки доложу, – перед тем, как предложить Осику зайти в комнату матери, сказал он. В гостиной, где ожидал приема Осик, находились две девушки, выполнявшие роль сменных сиделок. Как ни крути, а община, возглавляемая Рыжим, предоставила ему возможность обеспечить достойный уход за его матерью.
Анна Самуиловна попросила, чтобы при ее прощании с Осиком присутствовал и Петя, что стало неожиданностью для обоих.
– Как родители? – первым делом спросила она.
– Уже легче, – ответил Осик.
– И мне уже легче, – призналась умирающая, – А то вот Семен родился при Сталине и умер при Брежневе, – вспомнила она мужа и, надолго закрыв глаза, умолкла. Бывшие приятели понимали, что она не спит.
– Осик, открой шкатулку и дай ее мне.
Он понял, что речь идет о ларце, стоявшем на прикроватной тумбочке.
– И моя последняя просьба к тебе, Осик, – сказала Анна Самуиловна, достав из шкатулки какие-то документы. – Прими сейчас эти бумаги, а потом делай с ними что хочешь.
Бумагами оказались свидетельство о смерти Кристины и свидетельство о браке между ней и Осиком.
– Документы подлинные, Осик, и они тебя ни к чему не обязывают. Прости, что тебя не спросили. Прости и прощай.
Происшествие несколько выходило за рамки реальности. Одинаково потрясенные бывшие приятели сидели за столом в гостиной, девушки-сиделки взяли на себя роль обслуги.
– За встречу? – на правах хозяина предложил первый тост Петя.
Пили водку, закусывали солениями и селедочкой, но уже готовился полноценный обед.
– Так мы теперь родственники? – спросил Петя.
Они как будто не пьянели, обоим все еще было не по себе.
Осик молчал. Наконец, водка и обильный обед сделали свое дело. Они немного расслабились, и тогда Петя произнес:

