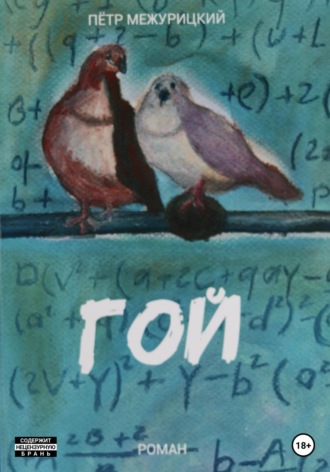 полная версия
полная версияГой
А Петя начал соблюдать посты и предаваться аскетическим практикам так, словно с цепи сорвался. Всякие упреки под тем предлогом, что главное – дух, а не буква, он с негодованием отвергал, утверждая, что буква – это и есть зримое проявление духа, и кто не подчиняется букве, тот грешит против духа. А отпустив волосы до плеч и бороду по грудь, Петя превратился в живой укор тем, кто, если и соблюдал букву закона, то по большим праздникам. Что уж говорить обо всех остальных. Его огненно-рыжая грива в купе с того же цвета густой бородой производили такое впечатление, что некоторые городские художники, пользуясь знакомством с поэтом Игоренко, умоляли его упросить Петю согласиться им позировать. И Петя иногда принимал предложения такого рода, считая это актом смирения со своей стороны. Пришло к тому, что для любителей искусств его образ стал знаковым. Разумеется, Петя был явлен на полотнах отнюдь не в качестве образцового ордынского труженика или правильного военного.
Удивительно ли то, что скромная допрежь церковь в Бородатово стала как магнитом притягивать к себе городскую интеллигенцию, годами не находившую повода заглянуть хоть в какую церковь. Люди специально приезжали в село, чтобы увидеть Петю. Само собой, его навещали в Бородатово и личные друзья – Осик с Ириной, Павел Игоренко, Князев. Как этому наплыву отнюдь нетипичных для сельской местности гостей радовался церковный староста Арсений Богданович, можно только себе представить. Утешением ему служило лишь то, что его верные старушки чувствовали себя в родной церкви все менее комфортно. Одно дело, если безбожная власть почему-то вдруг находила нужным закрыть церковь, к чему верующие относились как к гонениям, что было почетно, и совсем другое, когда церковь внешне начинала процветать, но благодаря не им, а пришельцам.
Через маститых живописцев с одной стороны и звезды местной богемы Павла Игоренко – с другой Петя обзавелся знакомствами и среди молодых художников-авангардистов и прочих нонконформистов. Эти заносчивые и независимые ребята мигом смолкали, едва завидев его. Привлечь внимание Рыжего, как они между собой прозвали Петра, к своей работе уже считалось успехом. К тому же ходили слухи, что Петя пришел в церковь не откуда-нибудь, а прямо из авангардной поэзии. Стоит ли удивляться тому, что вскоре некоторые из них приняли решение отправиться в Москву креститься и обратились к действующему сторожу церкви в Бородатово с просьбой рекомендовать их отцу Евгению. И Петя, недолго думая, им отказал.
– Почему? – не веря своим ушам, спросил Петю чуть ли не самый преданный его почитатель, недавний выпускник художественного училища Дольф Рутенберг. – Ты считаешь меня недостойным?
– Я считаю отца Евгения излишне либеральным, – ответил Петр. – Я прочитал его книги, и от них разит если не ересью, то недопустимой вольностью. Будь моя власть, я бы эти книги сжег. С теми экземплярами, что у меня были, я так и поступил.
– Ты сжег книги отца Евгения? – воскликнул Дольф, не пожелавший скрыть своего восторга. – Да ты великий человек!
– Не искушай, – смиренно произнес Петр. – А крестить тебя попросим отца Исаакия. И уже через неделю мир обрел нового православного христианина Дольфа Рутенберга. Отец Исаакий подарил ему две небольшие иконки кустарно-массового производства, и Дольф, страстно ненавидевший, как он говорил, «замшелое псевдоискусство», повесил их в своей комнатке в родительской хрущобе.
– Да я на тебя в Охранное отделение напишу! – в бешенстве орал его отец, тертый жизнью еврей, в любую минуту ожидавший от Орды какой угодно подляны, но только не такого. Он попытался сорвать со стены иконы, но этот номер из-за угрозы физического сопротивления сына у него не прошел. Тогда он плюнул на них с безопасного расстояния и на этом вынужден был успокоиться, вернее, примириться с обстоятельствами. А что он, в самом деле, мог еще сделать? Выгнать сына из дому и посыпать голову пеплом? Нет, этого варианта ордынский еврей и многолетний член завкома южно-пальмирского завода тяжелого краностроения слесарь-лекальщик высшего разряда Савелий Рутенберг даже не рассматривал. Зато он пересмотрел всю свою жизнь.
Мысль о том, что на протяжении тысяч лет, наверное, еще со времен пророка Моисея, в доме Рутенбергов не было идолов, и вот они появились в Южной Пальмире у него в квартире, просто сводила его с ума. Два дня он лихорадочно искал виновных в том, что произошло, дабы утешиться хотя бы этим. Он пытался обвинить во всем страну, власть, нынешнюю молодежь, жену и ее родню, друзей семьи и случайных знакомых, но убедить себя никак не получалось. И наконец, на третий день, поиски истинного виновника, похоже, увенчались успехом.
– Во всем виноват я, – сокрушенно поделился он своим открытием с женой, потрясенной случившимся не менее, чем он сам. – За всю жизнь ни разу в синагоге не был. Ты понимаешь? Ни единого раза за всю жизнь. Я старался не допускать в наш дом никакой скверны, но в нем ни разу не было и мацы. А если очищать дом от скверны, но не приносить в него ничего хорошего, то в доме будет пустота, а природа не терпит пустоты, и в дом проникнет такое, что лучше бы ты не трудился его очищать от скверны. Вот мы и дождались.
Бедный Савелий Рутенберг даже не подозревал, что своим умом дошел до практически евангельской проповеди. Так велико было его горе.
А перед его сыном Дольфом открылись радужные профессиональные перспективы. Стало известно, что по приглашению Православной, якобы отделенной от государства, церкви в страну через несколько месяцев с визитом должен прибыть Патриарх Иерусалимский. Понятно, что правительство Орды делало на него некие ставки в своей непримиримой борьбе на уничтожение с еврейским государством, с которым порвало дипломатические отношения, тем самым ритуально вычеркивая его из списка стран, имеющих право на существование.
Разумеется, столь высокому гостю идейно безбожное государство приготовилось продемонстрировать во всю процветающую и ни в чем не нуждающуюся под его владычеством свободную церковь. В качестве типичного сельского храма решено было представить церковь в селе Бородатово, что под Южной Пальмирой, в связи с чем возникла необходимость в капитальном, как это назовут в будущем, евроремонте. И тут, стараниями Петра, пробил час новообращенных молодых в миру художников-авангардистов явить себя в качестве истинных богомазов.
Петр сумел убедить отца Исаакия доверить им расписывать церковь.
В самом деле, что, кроме дешевого в эстетическом смысле лубка, могли изобразить маститые ордынские живописцы, расписывая храм? А тут у отца Исаакия появилась уникальная возможность привлечь к работе искренне верующих, образованных и стильных молодых художников. Надо сказать, что отец Исаакий отнюдь не повелся исключительно на уговоры. Он посмотрел представленные ему эскизы, исполненные строго в соответствии с каноном, и проникся к проекту полным доверием. Это действительно был не лубок, но строжайший канон, обнаруживавшийся и в иерархии цветов, и в композиционных приемах изображения. При созерцании явленных ему стараниями молодых людей образов в душе отца Исаакия пробудилось нечто такое, что на глазах его проступили слезы, и работа закипела. Дольф и его друзья практически не покидали храма, а Петр придирчиво следил за верностью каждой букве канона. Время от времени в церковь заходил староста, смотрел на то, как продвигается работа, и выходил, не проронив ни слова. Успех честного и умелого труда молодых художников, казалось, был обеспечен, но однажды утром отец Исаакий пригласил Петра на разговор, который положил конец этому впечатляющему проекту.
– Петр, – без обиняков сказал настоятель храма его сторожу, – мы остаемся друзьями, но работу этой бригады уже с сего дня я сворачиваю. Не обижайся, но прихожане говорят, что Пересвятая Дева у вас похожа на еврейку. Многие наши бабушки даже плачут от огорчения, не в силах перенести того, во что превратили их церковь. Все придется переписать и хорошо еще, что осталось время.
– Но, отец Исаакий, – взмолился Петр, – вы же сами видите, что у нас все по канону. Образ Девы Марии именно такой, какой принят отцами церкви.
– А должен быть принят прихожанами, – не оставил места для дальнейшей дискуссии отец Исаакий. – И вот еще что, – священник опустил глаза, – ты больше не сможешь продолжать у нас работать.
– Отец Исаакий, – напоследок сказал Петя, – как православный христианин православного христианина, я не могу вас не спросить, понимаете ли вы, что на потребу мирским заблуждениям вы изгоняете из храма Богородицу, подменяя ее образ подделкой, лишенной благодати?
– Не суди, – предостерег священник.
– Я и не сужу, – категорически отверг обвинение Петр. – Я обличаю.
Так церковный староста, а в его лице не мудрствующая земная ордынская церковь, одержали непростую, но убедительную победу над церковным сторожем, практически изгнанным для начала из вполне конкретного бородатовского сельского храма.
Впрочем, Петру и его наметившемуся окружению это событие только придало сил и уверенности в своей правоте.
– Прошлое и будущее за нами, – уверенно пообещал Петр своим сторонникам, – а за этими – такое убогое настоящее, что им воистину не позавидуешь.
27.
Научный руководитель аспиранта кафедры древней истории Осика Карася профессор Роман Иванович Сикорских, получивший от студентов кличку Вертолет, был негласным украинским буржуазным националистом, о чем знали все. Конечно же, Охранное отделение Южной Пальмиры, само на три четверти состоявшее из негласных украинских националистов, покровительствовало профессору, что не избавляло его от необходимости гласно придерживаться самых заскорузлых великоордынских взглядов, что не было совсем уж бессмысленным ритуалом, потому что любой ритуал сам по себе является смыслообразующим. И все же наивысшую практическую ценность для власти представляли тайные штудии профессора в области неформальной политической философии.
Название диссертации Осика звучало традиционно и нарочито неприхотливо: «Ясир Арафат как теоретик и практик освободительной борьбы палестинского народа от иудейских захватчиков». Он сам выбрал эту тему, поскольку она открывала наибольшие возможности получить доступ к подлинным источникам, раскрывающим страницы древней истории еврейского народа. Профессор Вертолет и его аспирант, в полном соответствии с правилами закрытой научной деятельности, вели совершенно откровенные разговоры друг с другом, потому что вся многовековая практика поиска истины подсказывала, что иначе до нее не докопаться. А как же исказишь истину, не докопавшись до нее? Ведь мало проку в том, чтобы искажать что ни попадя. Для такого дурного дела и науки не надо.
– Роман Иванович, – спрашивал Осик, – но почему же Орда ищет побед и свершений на путях лжи? Разве не проще искать побед на путях правды?
– Может быть, энергетически и проще, – отвечал Вертолет. – Поэтому англичанка и гадит правдой. Однако Орда выбрала другой путь. Да и что есть истина? Разве Шекспир нам правдой факта интересен? Да и тот же Лев Николаевич Толстой?
Разговор происходил на квартире у профессора, куда он часто приглашал аспирантов для обсуждения научной работы.
– Я вижу, Иосиф, ты хочешь, чтобы я назвал нашу Орду Империей Зла, – продолжал профессор. – Ведь ты именно этого от меня ждешь? Тогда, пожалуйста, я ее так называю, если тебе это что-то объяснит. Ну и как, объяснило? Теперь ты, наверное, спросишь, можно ли оставаться честным человеком, служа Империи Зла? Ну а как же этого не спросить у человека, ставшего доктором исторических наук в Империи Зла? Смотри, Иосиф, с научной точки зрения ты, разумеется, абсолютно прав. Конечно же, человек, если он хочет оставаться человеком, пускай даже очень плохим, но все-таки человеком, должен понимать, где он на самом деле живет и чем он на самом деле занимается. И в этой связи можешь с чистой совестью считать себя типичным представителем пятой колонны. Это я тебе говорю. Ничто так не очеловечивает империю, как ее пятая колонна. А совсем уж бесчеловечная империя обречена на скорый и неминуемый крах. Таково кредо моей имперской политической философии. Ну а в демократиях процветание пятых колонн – это вообще основной политический принцип их существования. Это еще чуть ли ни Мэдисон с Гамильтоном прямо декларировали. Я уж про Локка не говорю.
Осик хотел было что-то уточнить, но разошедшийся Вертолет не дал ему раскрыть рта. А зачем иначе он приглашал к себе аспирантов, в которых угадывал дух крамолы? В рамках официальной деятельности он не мог излагать своих, не совпадающих с государственной идеологией, взглядов. Но и власть не могла довольствоваться лишь официальной идеологией, не рискуя при этом потерять вообще всякое представление о действительности. Поэтому Вертолет высказывал все, что наболело, избранным аспирантам у себя на дому, а дом прослушивался Охранкой. Каждое слово Вертолета записывалось, и таким образом в стране функционировала свободная мысль. Иногда к профессору Сикорских под видом работника научной библиотеки или городского архива подходил человек с просьбой разъяснить то или другое темное место из его спонтанных домашних речей, что Вертолет охотно делал, если сам помнил, о чем говорил.
– Почему Ленин летом боевого восемнадцатого года, когда почти всем было ясно, что большевикам власти не удержать, вдруг издает Декрет о борьбе с антисемитизмом? – уже чуть ли ни кричал Вертолет, видимо, апеллируя к воображаемой толпе. – потому что евреи и есть идеальная пятая колонна. Да издай Деникин или Петлюра такой декрет, и большевики бы наверняка проиграли. Но у них не хватило ни смелости, ни ума, хотя оба еврейских погромов не одобряли. Вот князь мира сего и принял решение дать большевикам возможность спасти или создать Империю Зла, – профессор передохнул и, втягивая в себя очередную порцию воздуха, успел заметить перед собой своего гостя. – А, это ты, Иосиф. Поверь, я не хочу тебя обижать, ты ведь из великороссов, и тебе, конечно, хочется считать, что до безбожной большевицкой власти Орда была чуть ли ни святой. Как же! Слыхали мы про эту Святую Орду, видели ее, пробовали на вкус, ощупывали вдоль и поперек, а уж как надышались ею. Так вот о демократии с точки зрения будущего государственного строительства Малороссии, когда она станет независимой, и ей опять придется отражать агрессию Большой Орды…
Вертолет ушел в свободный интеллектуальный полет, и забота о последовательности повествования в этой ситуации его меньше всего напрягала.
– Как ты думаешь, почему Сталин поддержал создание Израиля?
– Почему? – как завороженный, спросил Осик.
– Да потому, что стал совсем прост на старости лет. Он, видишь ли, посчитал, что сорок миллионов арабов сотрут в порошок четыреста тысяч евреев, как только те объявят себя независимым государством. Вот вам и окончательное решение еврейского вопроса. Да только такие вещи на путях простой арифметики не решаются. В результате Сталин умер глубоко несчастным человеком, который, с одной стороны, добился абсолютной власти, а с другой, даже обладая такой властью, не сумел осуществить почти ничего из того, ради чего ему эту власть вручили, не спрашивай меня, кто. Ведь власть в конечном счете не самоцель, но миссия. А земные блага, которые она дает своим носителям, – это лишь слабая компенсация за истязания, которым подвергается душа властителя. Посмотри на их дворцы, и по уровню роскоши, в которой живет властелин, ты поймешь уровень его душевных страданий. Это мерило суть точнейшее из мерил. Боль души можно утолить только золотом. А у кого душа не болит, тому золота и не надо. Так это работает, Иосиф. Поэтому Иисус был нищ, а Понтий Пилат материально не бедствовал, что в высшей степени справедливо.
Раздался дверной звонок. Вертолет пошел отрывать дверь, и Осику показалось, что из прихожей начали доноситься какие-то знакомые интонации. Через минуту в комнату вошел Павел Игоренко, которого профессор попытался ему представить, но неофициальный поэт опередил Вертолета, радостно воскликнув «Осик! А ты здесь какими судьбами?».
– Воистину в этом городе все друг с другом знакомы, – без особого удивления констатировал Вертолет.
А самого Игоренко привел в этот час в дом профессора расклад событий не самый тривиальный. Три дня назад в доме ему отказала его многолетняя сожительница Валентина. Бедный поэт в одночасье оказался без крыши над головой и без средств к существованию. И в столь отчаянную для кого угодно, но только не для него, минуту он решал лишь одну проблему: к кому из многочисленных знакомых обратиться с просьбой перекантоваться у него не больше, чем на пару дней. Сверх того ему было не надо, в чем он провидчески оказался прав.
– Я за чемоданом, профессор, – объявил он Вертолету.
– Как? – не поверил тот. – Я думал поживешь еще недельку.
– Я же сказал, что на пару дней, – как бы извиняясь, произнес Игоренко. – Да я бы с удовольствием у тебя еще бы пожил, но Галина обидится.
– Уже есть Галина! – восхитился профессор успехами друга и отправился к заветному бару приготовить три отнюдь не безалкогольных коктейля.
А Игоренко, оставшись наедине с Осиком, так начал рассказ о своих необычайных злоключениях:
– Это все твой проклятый Рыжий…
28.
Орда готовилась впервые в своей истории принимать Олимпийские игры. Через год в Москве должно было состояться их открытие, но Петя Свистун, в народе Рыжий, объявил своим приверженцам, что игры не начнутся вовсе, потому что еще до их начала состоится Конец света.
«Да как же он не боится? – думал Осик – Ведь до открытия Олимпиады осталось меньше года. Ну, хорошо, если Рыжему повезет, и на Москву, или, на худой конец, на Южную Пальмиру упадет неслабый астероид, и все накроется медным тазом. Но ведь, скорее всего, не упадет. И что тогда? Рыжего разорвут его сторонники за то, что они стали посмешищем под его руководством? А как было бы хорошо, чтобы все это и впрямь накрылось медным тазом. До открытия Олимпиады еще год, а от нее уже так смердит, что хочется заткнуть нос».
А вот адептов Рыжего все прибавлялось и прибавлялось. Еще бы! Он был единственным, кто четко указывал путь к спасению от всемирного катаклизма. От адептов всего-то и требовалось, что отказаться от греха, сушить сухари и призывать людей следовать своему примеру, дожидаясь дальнейших указаний Рыжего, напрямую вышедшего на Подателя Всех благ. Была установлена еженедельная норма по сушке сухарей. Сначала Рыжий лично принимал у каждого работу по заготовлению. Это было действо, которого с нетерпением ждали все участники подготовки по достойной встрече Конца света, особенно те, кто не сумел на этот раз выполнить недельную норму. Они чаяли услышать, как Рыжий будет их прилюдно журить и порицать, и это было в их глазах чем-то более желанным, чем похвалы, которые доставались добросовестным исполнителям на поприще стратегических заготовок.
«Нет, это положительно кончится полным звиздецом», – все более проникался этим убеждением Осик. Ноги принесли его в дом Галины, у которой теперь постоянно проживал неофициальный поэт Павел Игоренко, которого, наконец, приютила женщина, дрожавшая над каждой его строчкой. Она обрадовалась приходу Осика.
– Заходи, заходи, Павлуша как раз дома.
– Сколько я раз я просил не называть меня Павлушей, – раздалось из единственной комнаты квартиры.
– Хорошо, хорошо, Павлуша, – пообещала Галина из коридора.
– Моя бывшая уже полный мешок сухарей насушила, – первым делом сообщил Игоренко. – Я посоветовал Рыжему организовать экспедицию в Астрахань за воблой.
– Ну и как? Прислушался?
– По-моему, он меня проклял, – беспечно сообщил неофициальный поэт. – Ты, конечно, будешь смеяться, но у меня целых три дня после этого не проходил просто проливной насморк, который неизвестно откуда взялся.
– На нервной почве, наверное, – предположил Осик.
– Может быть, и на нервной, – согласился Игоренко. – Смотря, что под этим иметь в виду. Я слышал, и от тебя жена ушла, – безо всякого перехода продолжил он. – И тоже, конечно, сухари сушит?
– И не одна сушит, а вместе со своими родителями. Машу вот забрала.
– Это естественно, – посочувствовал Игоренко. – Маше уже, наверное, пять?
– Что же это будет, Павел? – спросил Осик. – Ведь погубят ребенка.
Лицо Галины, присутствовавшей при разговоре, излучало боль и сострадание.
– Все еще будет хорошо, Осик, – не слишком уверенно пообещала она.
– Рыжий, конечно, полный идиот, и он еще угодит в дурдом, или я плохо знаю Орду, но видишь ли, Осик, мы с Галиной начали ходить в церковь, – сообщил Игоренко.
Осик был оглушен этой новостью.
– Но ведь это же самообман, Павел, – сказал он, когда пришел в себя. – Чем же эти попы лучше партийных секретарей, которые таки упекут Рыжего в дурдом? И ты думаешь, что хоть один поп за него впишется?
– Ну, один, может, и впишется, этого никогда не знаешь, – отвечал Игоренко, – но ведь дело совсем не в этом.
– И как тебе после этого сочиняется? – перешел в решительное наступление Осик. – Каждый новый текст несешь батюшке на рецензию? Наконец-то и ты обрел худсовет? Нельзя, выходит, поэту без этого?
Но Игоренко вовсе не собирался ссориться на почве мировоззренческих вопросов. Гораздо больше его сейчас интересовала чисто бытовая проблематика:
– Так ты теперь живешь у родителей?
– Да. И это единственное, что сейчас хорошо. Отец мне целых две комнаты выделил, ведь я как-никак аспирант.
– Ну и подруга жизни имеется, – продолжил Игоренко.
– Да, и Кристина, – подтвердил Осик.
– Родная сестра Рыжего, – пояснил Игоренко Галине.
Та всплеснула руками.
А через день после этого разговора среди бела дня на кафедру истории Древнего мира и Средних веков Южно-Пальмирского университета явился посланник Рыжего, бывший художник-авангардист, а ныне конвенциональный православный портретист Дольф Рутенберг. Разыскав Осика, он предложил ему выйти прогуляться, и тот с трудом подавил в себе желание попросить разрешения собрать вещи.
– Придется тебе подождать, – сказал он. – Я хочу сдать книги и собрать вещи, чтобы сегодня сюда уже не возвращаться.
Сложные чувства испытывает человек, когда за ним внезапно приходят. Такое событие автоматически воспринимается душой и телом чуть ли не как угроза жизни. Словно в человеке просыпается некий древний фундаментальный инстинкт. Но кто же это такой неодолимо страшный являлся за древним человеком и предлагал ему выйти пройтись из пещеры? Собирая портфель на кафедре истории Древнего мира и Средних веков, Осик искал ответ на этот вопрос.
29.
Во времена туманного отрочества, кроме занятий живописью, Дольф Рутенберг осваивал премудрости шахматной игры и регулярно посещал секцию бокса. Когда, ближе к юности, он сделал нелегкий выбор в пользу искусства, его шахматный наставник и тренер по боксу не обрадовались, полагая, что потеряли перспективного воспитанника. Однако не обрадовался и его учитель рисования в студии Дворца пионеров, где Дольф истово писал акварелью натюрморты. Он тоже почему-то видел в этом ученике скорее преуспевающего боксера или шахматиста, чем звезду живописи.
– Смотри, – предпринял он безнадежную попытку уговорить Дольфа согласиться пойти по пути счастливого будущего, – когда знаменитый боксер или известный шахматист пишет посредственные натюрморты, то о нем говорят: «какой талант», а когда заурядный художник неплохо играет в шахматы или прилично боксирует, его все равно держат за бездарь. Так кем же ты хочешь быть?
Доводы первого учителя Дольфа не убедили. Никем, кроме гения на поприще авангардной живописи, он себя уже во времена занятий в студии Дворца пионеров не видел. В те же времена он познакомился с таким же юным, как он сам, Осиком Карасем, посещавшим секцию в Центральном Южно-Пальмирском шахматно-шашечном клубе. Узнав, что Осик не еврей, Дольф сказал тогда:
– Какое у тебя шахматное имя!
То, что носитель шахматного имени оказался еще и сторонником Израиля, и вовсе расположило к нему Дольфа.
– А все-таки, почему ты за Израиль? – пытался понять он. – Может быть, тебе лучше не надо?
– Почему это мне лучше не надо?
– Потому что, когда еврей за Израиль, то ему за это, скорее всего, ничего не будет, потому что, а что с еврея сверх того возьмешь, если он уже и так еврей. А вот когда не еврей за Израиль, то это уже враг Орды. Так все-таки, почему ты за Израиль?
– Потому что я за справедливость, – отвечал Осик.
– Ну вот, то, что я и говорю, ты враг и есть. Разве Орда не твердит на каждом шагу, что она за справедливое решение ближневосточного конфликта? А ты, получается, считаешь справедливым то, что Орда называет вопиющей несправедливостью.
Эти разговоры Дольф и Осик вели, когда им было по тринадцать лет. Теперь они перешагнули четвертьвековой рубеж. Осик работал над диссертацией, посвященной справедливой борьбе Ясира Арафата за освобождение Палестины от сионистской оккупациии, а Дольф подвизался в художественном фонде, занимаясь в основном наглядной агитацией, призванной побудить граждан Орды еще более сплотиться вокруг коллективного руководства, воплощая в жизнь величественные планы партии и правительства во всех областях человеческой деятельности.

