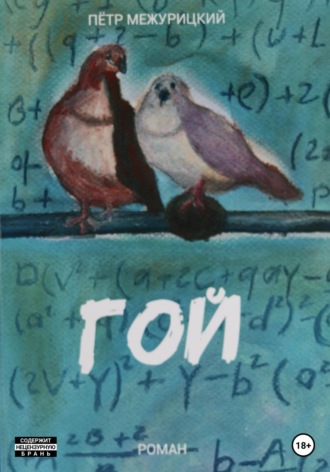 полная версия
полная версияГой
– Нет, а что?
– Как ты думаешь, кто же такие эти боги, что у Гомера, что у Софокла, что даже у Платона? Как ты думаешь, кто они? Или их нет? Но ведь они же есть, что у Гомера, что у Софокла, что у того же Платона. Что ты вдруг, будто язык проглотил?
– И кто же они?
– Кто они? – отец Ирины усмехнулся. – А ты против их воли пойди, может быть, тогда и узнаешь. Только вот что я тебе скажу, никуда, слышишь, никуда боги не подевались и подеваться не могли.
– А как же Христос? – спросил Осик.
– А разве мы еще не выяснили, что я не люблю евреев?
– Тогда почему ваша дочь крещеная?
– Она тебе и это поведала? – отец Ирины понимающе кивнул. – Вот это я понимаю – любовь!
24.
«В самом деле, почему же Бог евреев так нетерпим к идолам, если никаких богов, кроме него, нет? – думал Осик. – У Него получается так же нелогично, как у воинствующих безбожников: если Бога нет, то почему в него нельзя верить?».
Уже три месяца Осик и Ирина жили на съемной квартире, которую пополам оплачивали их родители. С рождением девочки характер Ирины неузнаваемо изменился. Даже не характер, а отношение к миру. И как почувствовал Иосиф, его место в этом новом мире жены уже не первое, а может быть – даже не второе и не третье. Впрочем, его это не особенно волновало. Все прошлые, нынешние и неизбежные будущие потери были полностью для него возмещены появлением на свет дочери, которую назвали Машей.
Часто по вечерам в гости к молодым супругам заходил Петя Свистун, иногда вместе со своим новым другом, неофициальным ордынским поэтом Павлом Игоренко. Эти визиты буквально бесили Ирину, хотя с Петей и его сестрой Кристиной она была знакома довольно давно, по крайней мере со времен ее первых свиданий с нынешним супругом. Природа природой, но когда Осик поделился с Петей новостью о том, что он встречается с девушкой, само собой нарисовался вариант любовных свиданий и в квартире на проспекте Сталина, ныне Мира, которую отец Пети много лет назад получил стараниями отца Осика. Увы, Семен Свистун покинул этот мир, а его вдова Анна, работая учительницей в образцово-показательной школе высшего педагогического мастерства, конечно, не могла уйти с уроков, чтобы внезапно нагрянуть домой. Поэтому не работавший Петя, то ли проводя досуг на богослужениях, то ли нанося визиты к столь же не работавшему Павлу Игоренко, любезно предоставлял иногда родительский дом для встреч влюбленной парочки. Правда, внезапно нарисоваться дома могла его сестра Кристина, но она проявляла похвальную скромность и понимание, входя в бытовые обстоятельства, характерные для всей практически бесконечно огромной страны.
Павел Игоренко пришелся Осику по душе. То, что в родной природе может существовать столь явно не пересекающийся с ордынской повседневностью человек, да еще при этом оставаясь на свободе, казалось неправдоподобным. Теоретически такой характер свободно мыслящего интеллигента, бесстрашно беседующего на любые темы, могла сформировать многолетняя ордынская каторга, но Павел никогда ее не отбывал. И даже за хроническое тунеядство власти его не дергали, удовлетворяясь подлинными справками с якобы мест работы, которые, используя свои знакомства, приобретенные благодаря выдающемуся таланту парикмахерши, добывала сожительница поэта Валентина. Сделать у нее стрижку, зайдя с улицы в Салон красоты, было делом еще более немыслимым, чем, зайдя с улицы, записаться в отряд космонавтов.
Осик рад был внезапному появлению гостей.
– Зашли на огонек, – объявил Петя. – Ну и холодрыга на улице. Не поздно?
– В самый раз, – заверил Осик, – дочку только что уложили.
Оставив куртки и шапки в прихожей, гости устроились на кухне, и Осик тут же поставил на огонь чайник. Заварку Игоренко принес с собой. Приготовление чая было для него искусством, наукой и ритуалом одновременно. Чай, заваренный не им, он за чай не держал.
– Вода в Южной Пальмире худшая в мире, – пояснил он, – и даже румыны ничего с этим поделать не могли, хотя официальный статус столицы наш город получил только при них, но с их уходом сразу же его и потерял. Да, Южная Пальмира была столицей Транснистрии, и вы знаете, это чувствовалось. Все-таки статус, как титул, сам по себе каким-то образом возвышает. То есть, что значит «каким-то»? Определенно мистическим. Вот ордынская власть и держит Южную Пальмиру в статусе пониже, что при царях, что при генсеках. Боятся они Южную Пальмиру, чуют в ней что-то исконно антиордынское. Но за это же и любят, порой. А что? Как есть евреи, ненавидящие еврейство, так есть ордынцы, ненавидящие ордынство, дело известное.
Время от времени дверь на кухню приоткрывалась, и Ирина, демонстрируя раздражение, шипела: «Тише» – и тут же исчезала.
На полминуты тишины этого иногда хватало.
– Евреев начали выпускать, а Петя принимает православие, вот пытаюсь это понять и не могу, – продолжал солировать Игоренко. – Уехать сейчас важнее, чем креститься. Как вообще можно тут оставаться, имея возможность уехать?
– Почему же ты не уезжаешь? – спросил Петя.
– Во-первых, я пока еще не еврей и даже не женат на еврейке, а во-вторых – я тут уютно устроился. Здесь я – гений, хотя бы одной из тусовок признанный, а там я кто?
– А там вы свободный человек, – подсказал Осик, – сможете, например, читать все, что захотите. Ведь там личность развивается совсем иначе. Мы тут прибиты нашими несвободами. Сами себя дебилизируем, чтобы нас в контору не потянули разбираться с нашей нестандартной гражданской ориентацией, если таковую в нас заподозрят. Вот вы поэт, а новейшей поэзии Свободного мира знать не знаете.
– Это ты кое-чего не знаешь, – заверил Осика неофициальный поэт. – Сведения об актуальном искусстве я получаю более или менее регулярно. Что ты так смотришь? Конечно же, от жандармов, от кого же еще, правда, не напрямую, но опосредованно, о чем они прекрасно осведомлены. Они вообще обо всем более или менее осведомлены. Например, им достоверно известно, что Петя послезавтра отправляется в Москву в купейном вагоне фирменного поезда «Южная Пальмира», чтобы принять там крещение. В связи с этим возникает вопрос, а доедет ли Петя до Москвы? Это зависит только от того, будет мешать общему делу новый православный или не будет.
– Да сейчас сотни крестятся, – неуверенно возразил Петя.
– Не сотни и даже не десятки, а как раз считанные единицы, – не согласился с его оценкой Павел.
– Не может такого быть! – возмутился Осик. – Ликвидировать человека только потому, что он собрался креститься? Делать им больше нечего? И кто такой Петя?
– Ты сам только что рассказывал нам, какие они злодеи и как они людям жить не дают, – напомнил Павел. – К тому же долго ли им из Пети сделать слона?
– Но зачем?
– А чтобы работу свою показать. А может быть – и для чего-то другого. Это из слона сделать муху – проблема, а из мухи слона – дело техники. Трудность заключается только в том, что никогда не знаешь, что за слон у тебя получится. Как бы то ни было, но я должен был предупредить Петра… А вот и чай поспел.
– Я, конечно, не знаю, о чем вы тут говорите, – в очередной раз приоткрыв дверь, взмолилась Ирина, – но нельзя ли потише?
– А вы присаживайтесь к нам, – пригласил Павел, – сделайте одолжение, составьте компанию.
Ирина не заставила себя упрашивать. Во-первых, личное обращение к ней Павла Игоренко в определенной степени ей льстило, потому что среди студентов университета ходило радующее своим неожиданным сопоставлением его двустишие:
«Литература без идей, Как с крайней плотью иудей», а во-вторых – ей все-таки самой хотелось поговорить с Петей, который, как она знала, собрался креститься.
– Я слышала, что ты собрался креститься, – сообщила Ирина. – Об этом уже весь город говорит. И что же это тебя на крещение потянуло?
– Что значит, потянуло? – не принимая легковесного тона, бросил на Ирину строгий взгляд Петя. – Ты не понимаешь, о чем спрашиваешь.
– Конечно, не понимаю, куда уж мне понять, почему человек в нашей стране, допустим, уверовав, собирается креститься, а не обрезаться.
– Есть и такие, которые обрезаются, – поспешил на выручку другу Осик.
– Может быть, и есть из тех, которые в Израиль собрались, с них-то какой спрос, скатертью дорога. Но Петя ведь, как я понимаю, уезжать не собирается. Так, Петя? Неужели ты поверил в Непорочное зачатие и Воскресение Христа? Нет, мне просто интересно.
– Поверил, – ответил Петр.
В его интонации было что-то такое, что заставило Ирину прикусить язык.
25.
Москва встретила Петра вкусным после южно-пальмирских сырых холодов морозом и автобусом-экспрессом с портретом генералиссимуса при всех его регалиях, закрепленном на зеркале заднего вида. Генералиссимус смотрел на пассажиров, прибывших со всех концов страны в столицу империи, а пассажиры – на него. В салонах южно-пальмирского городского транспорта портреты Сталина не висели.
«А хорош был бы в южно-пальмирском трамвае, – подумал Петя и улыбнулся этой мысли. – Особенно летом. Тоже ведь народ со всей страны прибывает. Вот бы и полюбовался на отца-народов, давясь в вагоне при поездках на пляж и на базар».
До квартиры Александры Владимирской он добрался без приключений. Утром они должны были вместе отправиться на электричке в поселок Тютчево, что в сорока километрах от Москвы. А пока Александра представила Петю своим родителям и брату, после чего и пригласила гостя к чаю вдвоем на кухне. Квартира, по южно-пальмирским понятиям, была райкомовской, то есть при высоких потолках и более чем четырех комнатах с раздельными ванной и туалетом.
При этом Александра, судя по всему, явно не роскошествовала:
– У тебя закурить не найдется? – как только они остались наедине, первым делом спросила она.
– Я ведь собираюсь креститься, – ответил Петя.
– А кода не собирался, вижу, что курил, причем, наверное, одну за другой, – уверенно предположила Александра. – А я вот и сейчас продолжаю.
Она сняла с полки жестяную банку, на которой было написано «Чай», поставила ее на стол, открыла, и в нос бросившему курить Петру ударил прокисший, явственно отдающий навозом запах. Александра, конечно, его не чувствовала или воспринимала иначе. Коробка до краев была набита окурками.
– Я сейчас не служу, – пояснила Александра, – приходится экономить. Завтра утром выйдем из дому пораньше, чтобы успеть перекусить на вокзале. Деньги у тебя есть?
– Я тоже не работаю, – сказал Петя. Выговорить слово «служу» его язык отказался. – Но мама дала мне денег на дорогу.
– А мне родители не дают даже на метро, – поделилась основами своего финансового бытия Александра, – но, правда, в питании не отказывают. Но я все равно безумно рада твоему приезду. Хоть пару дней поживу не за их счет. Как там Князев?
– Привет тебе передал и письмо.
– Спасибо. Посмотрим, что он пишет.
Александра прочитала письмо, подожгла его на огне газовой конфорки, положила догорать в пепельницу, посмотрела на Петю с новым интересом и спросила:
– Так ты поэт?
– Был.
– Бывших поэтов не бывает. Если, конечно, был. А если не был, тогда другое дело. Почитай что-нибудь свое, мы вместе и рассудим.
– Я не буду читать, – твердо отказался Петя. – Это искушение.
– Значит, стихи свои помнишь, – констатировала Александра и понимающе спросила:
– Считаешь их не соответствующими духу православия? Но ведь стихи не нуждаются в утверждении ни светской, ни духовной властью, в тех, разумеется, случаях, когда они ими не заказаны. И вообще, почему у некоторых людей возникает порыв к стихосложению? Кто или что тут первопричина? В любом случае не может Всевышний запереть себя в церкви.
– Что? – спросил Петя таким тоном, будто собирался встать из-за стола и немедленно покинуть этот дом.
– А что? – дружелюбно поинтересовалась Александра.
Она была ровесницей Петра и выглядела не взрослее его. Но он, к своему удивлению, признал за ней некое право старшинства. В общении с однолетками он привык чувствовать свое превосходство. Разве только с Осиком отношения складывались иначе, но они выросли вместе…
На платформе поселка Тютчево Петр и Александра вышли, когда утро уже окончательно вступило в свои права и позволило оценить все великолепие наступившего дня: чистейшая лазурь небес и ослепительная белизна покрытой снегом земли и деревьев являли красоту такую, что человеку не надо было прилагать никаких душевных усилий, чтобы ее разглядеть.
Дорога к церкви пролегала через могучий лес, и Петр подумал: «Вот она Россия». Мысль для него была чуть ли не кощунственной. Получалось, что Южная Пальмира не Россия. И Петр к огорчению своему понял, что нет, не Россия. Но как же так?
«Мало того, что провинция, так еще и не русская, – не мог остановить Петр взбунтовавшегося против родного города потока сознания. – Столица Транснистрии». Он замедлил шаг, приостановился и как-то беспомощно огляделся вокруг.
– Что произошло? – встревоженно спросила Александра.
– Все в порядке, – ответил Петр, сам пытавшийся разобраться с тем, что же произошло. – Величием повеяло.
– А! – удивленно, но и благосклонно отреагировала Александра. – Неужели проникся? – и, усмехнувшись, но тут же и помрачнев, добавила:
– Дремучести тут хватает.
В церковь они зашли, когда отец Евгений заканчивал служить заутреню.
Черноволосый и чернобородый полноватый человек с лицом восточного мудреца сосредоточивал на себе таинственное пространство храма.
Таким Петр впервые увидел отца Евгения, о котором рассказывал ему в Южной Пальмире Князев. Они гоняли фирменные чаи в подвале у Игоренко, и Князев просвещал обоих:
– Отец Евгений по происхождению еврей, что само по себе пикантно, однако не более того. А вот более того, и даже сверх более того то, что он открытый юдофил. Понимаете? Объясняю. Никто не скрывает того печального факта, что встречаются в природе священники-педофилы. Что тут поделаешь? Грех есть грех, и с грехом можно бороться, и с ним борются по мере сил и возможностей. А как бороться с юдофилией, если формально это не грех?
– Зачем тогда бороться, если не грех? – не без лукавства спросил известный в узких кругах неофициальный поэт Игоренко, сам отличавшийся юдофилией.
– Ну, да, ну, да, – откликнулся Князев и продолжил рассказ об отце Евгении. – Человек он весьма популярный в не слишком национально ориентированной интеллигентской среде, научно и лженаучно хорошо образованный, знаток и исследователь древней еврейской церкви, как он называет, простите, иудаизм периода Второго Храма. Сферу его особого научно-богословского интереса составляет эта, так им называемая, еврейская церковь накануне пришествия Христа и в сам момент Его пришествия. В результате он реставрирует реальную картину Иудеи времен проповеди Иисуса. Вы понимаете, что это значит? Само собой разумеется, что в книгах отца Евгения по настроению не то, что нет ненависти к евреям, но, напротив, есть к ним любовь, уважение и сочувствие. Главным достоинством и пороком этих несвоевременных книг отца Евгения является то, что они вызывают у читателя полное доверие.
– Но почему же ты направляешь меня именно к этому человеку? – спросил Петр, уже достаточно сбитый с толку.
– А направляю я тебя к нему, во-первых, потому что отец Евгений достойнейший православный пастырь, непоколебимо верный и честный в своем служении сын церкви, христианин по жизни, можно сказать. Во-вторых, – сделав паузу, продолжил Князев, – я надеюсь, что ты настолько придешься по душе отцу Евгению, что он подарит тебе свои книги, изданные в Европе. Вот их-то ты в Южную Пальмиру и привезешь. Можешь сам прочитать, но отдашь их мне, ведь автор подарит их тебе не для того, чтобы ты их утаивал, но, напротив, чтобы распространял. Вот и распространишь.
– Чур, и меня стороной не обойти, – воскликнул Игоренко. – Давно мечтал отца Евгения почитать, а то по вражьим голосам ни черта не разберешь. Когда его тексты передают, максимум через две минуты глушить начинают.
«И учти, если отец Евгений спрашивать начнет, не вздумай лукавить. Мигом просечет. Лучше уж откажись от ответа. И вот еще одно, ты уж извини, что предупреждаю, потому что такого за тобой вроде бы не замечается, но не старайся ему понравиться. Но уж, пожалуйста, и не дерзи, как это с тобою иногда происходит», – вспомнил Петр последние наставления Князева.
А в церкви, что в поселке Тютчево, отец Евгений начал проповедь, посвященную празднику Обрезания Господня. «Что еще за праздник такой?», – думал Петр, разглядывая благообразных старушек, слушавших своего пастыря с просветленными лицами. «И что же они услышали?» – внутренне усмехнувшись, спросил он себя.
Когда отец Евгений освободился, Александра подошла к нему под благословение и представила Петра, сразу же объяснив, зачем они приехали, хотя священник, едва их увидев, входящими в храм, это уже знал.
Услышав, что Петя приехал из Южной Пальмиры, он просиял и сообщил:
– Мой дед был грузчиком в южно-пальмирском порту. Как там у вас? Слышал, что в Южной Пальмире идет православное возрождение.
Петя пожал плечами. Он как раз слышал, что в Южной Пальмире идет еврейское возрождение, с которым активно борется Охранное отделение. Некоторые евреи, в том числе молодые, вдруг принялись отмечать иудейские праздники. В городе зазвучали, казалось бы, навсегда покинувшие его слова, типа «Ханука» или «Пурим». Петя, конечно, был далек от всего этого, но не знать об этом было невозможно.
– В городе заметно еврейское возрождение. Но я думаю, что это касается только той части евреев, которые собираются иммигрировать. А те, кто не собираются, вячески стараются отмежеваться от возрождения такого рода. Наоборот, утверждают, что, если и хотят уехать в Израиль, то только для того, чтобы вступить там в компартию.
Отец Евгений рассмеялся. Потом задумался и надолго замолчал, явно принимая некое решение.
– Вот что, Александра, – сказал он, – спасибо, что навестила. Кланяйся всем по возвращении. И собирайся в путь. А Петр, если не возражает, переночует здесь. Ну а утром мы с ним и поговорим.
Несколько ошарашенная таким поворотом, Александра сказала Петру при прощании:
– Ты как вернешься, позвони с вокзала, я тебе объясню, что в гастрономе купить. Отметим твое крещение. Да и денег мне на дорогу дай, я ведь не рассчитывала на то, что буду возвращаться одна.
– Таки да, – спохватился Петр, не менее ошарашенный, чем Александра. – Как же ты одна через этот лес?
В комнату вошел отец Евгений в сопровождении мужичка средних лет и аккуратной старушечки из тех, которые были на заутрене.
– Знакомьтесь, это Ермолай, он любезно согласился проводить Александру до платформы , а это Екатерина, она покажет тебе твою комнату, Петр. Отдыхай, гуляй, но только за ограду храма все же не выходи. В комнате есть библиотечка. Есть и радио. Так что не стесняй себя.
С этой минуты Петр начал молить о скорейшем наступлении завтрашнего утра, и оно наступило, однако не раньше, чем закончилась мучительная для него ночь. Петр спал и не спал, пребывая в каком-то ином состоянии, чем сон или бодрствование. Ему виделась история его первой любви, которая пришла к нему в пионерском лагере. Тот девичий образ уже давным-давно совершенно не пробуждал в нем никаких чувств, и тем чудовищнее было то, что Петр тогда на прямой вопрос, заданный самому себе, дороже ли ему Марьяна отца, матери и сестры, со всей определенностью ответил: «Да». А что если бы его страстное пожелание было исполнено? Долгим ли было счастье, да еще купленное такой ценой? А если так, то чего стоит все остальное, если и чувство первой любви не стоит в сущности ничего. А может быть, все-таки чего-то и стоит, раз запоминается навсегда.
Что касается отца Евгения, то он и вовсе не ложился в постель, всю ночь посвятив молитвенному бдению, о чем Петя, разумеется, и близко догадываться не мог. И вот наступил момент, когда отец Евгений спросил, есть ли у Петра какие-то вопросы и сомнения перед тем, как принять крещение.
«Не хватает только того, чтобы я лежал сейчас на кушетке», – подумал Петр, что-то слышавший от неофициального южно-пальмирского поэта Павла Игоренко об австрийском психиатре, само собой – еврейского происхождения, Фрейде и разработанном им методе психоанализа.
– Я сомневаюсь, не является ли крещение младенцев насилием над человеческой волей – признался Петр.
– А разве воспитание не есть в известной мере насилие? – спросил отец Евгений. – Мы же учим детей, например, вытирать нос, не дожидаясь того, когда они вырастут, и сами решат, стоит им это делать или нет.
Этот простой ответ полностью Петра убедил. Больше вопросов у него не было. Зато они оказались у отца Евгения. И начал он с неожиданного:
– Петр, может быть, ты знаешь что-то о том, были ли в твоем роду славянские предки?
– Конечно, знаю, – не понимая, какое это может иметь отношение к крещению, ответил Петр. – В какие-то баснословные времена мой предок по отцу, будучи славянином дворянского рода, принял иудаизм. Но мать у меня иудейских корней еще со времен праотцов, – на всякий случай торопливо добавил он.
– Речь сейчас не об иудейских корнях, – пояснил отец Евгений. – Как раз с этой стороны никаких затруднений для тебя я не вижу.
Он вышел из-за письменного стола и присел на стул рядом с Петром.
– Слышал ли ты когда-нибудь о том, что такое Пульса де-нура?
Нет, ни о чем таком Петя даже от Павла Игоренко не слышал.
– Так вот, Пульса де-нура у иудеев означает, скажем, метафизическое наказание за тягчайшее преступление, которое реализуется Высшей силой в физическом мире. Речь идет о наказании смертью. Не буду в это углубляться, только открою, что нечто подобное практиковалось у древних славян в языческий период их истории.
Петя затаил дыхание. Стало очевидным, что сказанное имеет к нему самое непосредственное отношение.
– Это трудно объяснить, но способность вызывать эту убийственную Силу по сей день сохранилась у некоторых потомков древних славянских жрецов. Кто-то может ею сознательно управлять, у кого-то она проявляется бессознательно. Обращаться к этой Силе для христианина великий соблазн, которому труднее противостоять, чем абсолютному большинству прочих соблазнов. Я хочу, чтобы ты это хорошо усвоил, Петр. За тебя буду молиться я и твои духовные родители.
Через час Петя с торбой через плечо, полной подаренных книг, направлялся к платформе станции Тютчево, будучи уже православным христианином. Вплоть до квартиры Александры его сопровождал добрый прихожанин для особых поручений Ермолай.
26.
В Южной Пальмире, на радость местного Охранного отделения, активно действовали сразу три антисоветских подполья: сионистское, православное и литературно-художественное. Участники этих подполий, как правило, хорошо знали друг друга: одни когда-то учились вместе в одной школе, другие – в одном институте, третьи – занимались в одной спортивной секции, четвертые – были соседями, пятые – работали на одном предприятии или в одном учреждении. И вот жизнь их развела по разным подпольям. В каждом подполье были свои лидеры и своя – то явная, то тайная грызня между ними за влияние на умы и сердца рядовых подпольщиков.
Православное подполье уже года четыре, как уверенно возглавлял Петр Свистун. Работал он сторожем в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бородатово, расположенном на Гаджибейском лимане. Явная симпатия, которую проявлял по отношении к нему настоятель церкви отец Исаакий, сделала его объектом непримиримой вражды со стороны церковного старосты Арсения Богдановича Неждана, ветерана войны и труда, твердо ориентированного на житейские ценности, в число которых входили вера в Христа, кем бы он ни был, и верность курсу правительства страны, каким бы он ни был. Но от Петра можно было услышать, например, что Иисус – еврей, и, что еще хуже, будто бы рожден он был еврейской матерью. А курс правительства страны, как можно было догадаться по некоторым репликам Петра, он и вовсе не почитал в качестве безусловно во всем и всегда непорочного, порой цитируя слова из Евангелия: «Богу Богово, а кесарю кесарево».
– Так ведь это не для нас было сказано! – искренне возмущался наглостью церковного сторожа Арсений Богданович. – Библия вообще не нашего ума дело.
В своем упорном нежелании даже близко знать Священное Писание Арсений Богданович был далеко не одинок. Более того, как вскоре убедился Петр, одинок был как раз он в своем желании изучать Писание. Иногда погожим деньком, когда Храм был заперт, Петя сидел на лавке под акацией с Евангелием в руках.
– Ишь, расселся, читает, – кивал в его сторону церковный староста. – Мало ему проповедей батюшки.
– Прямо как еврей, – обязательно поддакивала одна из благостных старушек, занятых по хозяйству.
– Так он и есть из жидов, – в тысячный раз с непреходящим удовольствием указывал на это обстоятельство Арсений Богданович, и старушечки в тысячный раз озабоченно ахали. Это действо давно уже превратилось в ритуал и, как выяснилось, вовсе не лишенный ни сугубо практического, ни далеко идущего метафизического смысла.

