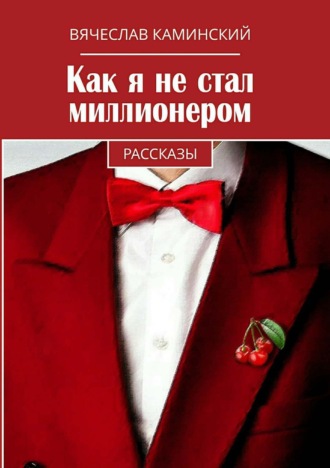 полная версия
полная версияКак я не стал миллионером
Правда, на судне мой восторг оценили не все, усомнившись в достоверности, выгравированных на внутренней стороне перстня иероглифах.
– Это не золото! – собрав в кучку мохнатые брови, вынес вердикт Ваня Бабенко. Матрос со стажем. – Что я золота от меди не отличу? – И для большей убедительности громко и раскатисто захохотал, вызвав ответную реакцию у собравшихся. Правда, не у всех.
– Вот, вот что покупать надо было! – И Ваня вынул из безразмерных брезентовых штанов целую гирлянду часов. Штук пять или шесть.
– «Мортима», – многозначительного произнёс он. – Лучшие глубоководные часы. Выдерживают до двадцати атмосфер…
– Это ж сколько в метрах? – раздался чей-то любопытный голос.
– У тебя что по физике было? – взглянув в нужном направлении, съязвил Ваня. – Одна атмосфера – сто метров. Вот и считай…
Кто-то аж присвистнул.
– Это ж что, на два километра с ними нырнуть можно?
– Ага. Нырнуть можно, а вот вынырнуть…
Все засмеялись.
– Зачем вообще такие часы, когда тебя раньше них сплющит? – встрял в разговор моторист Кошечкин, полностью соответствующий своей мягкой фамилии.
Тут уж мне пришлось продемонстрировать свои знания (инженер всё-таки) и напомнить присутствующим, в том числе и Ване Бабенко, что одна атмосфера равняется вовсе не ста, как он думает, а всего десяти метрам водяного столба.
Все сразу успокоились.
Ну это же совсем другое дело! Можно было подумать, что каждый из них готов хоть сейчас сигануть на двести метров. Делов-то!
Но Ваню уже было не остановить. Его даже не огорчил тот факт, что часы его не такие уж и глубоководные… Ему не терпелось убедить и себя, и окружающих, что перстень мой ненастоящий. В смысле, не золотой. А если и золотой, то не весь. Ну, может, малость позолоченный, но не больше….
– Давай проверим! – настаивал он.
– Как? – не понял я.
– Ну ты же химик!
– Ну?
– Что ну! Давай опустим твой перстень в серную кислоту. Или соляную. У тебя же они есть? – напирал Ваня.
– Есть, – согласился я, даже не удивившись обширным Ваниным познаниям, хотя, по-честному, ничего проверять мне не хотелось. В конце концов, что я этот перстень носить буду? Нет, конечно. Это ж так, для форса. Подарок индейского вождя. По крайней мере, под таким соусом я бы его демонстрировал своим друзьям на берегу. Ну, может, ещё чего приврал бы. Но от Вани было не отвязаться. И я покорно, будто был действительно ему что-то должен, последовал в сопровождении группы поддержки в судовую лабораторию. Для проведения научного эксперимента над злополучным артефактом.
– Но у меня одно условие, – обратился я к Ване. – Ты проверяешь мой перстень, а я твои глубоководные часы.
– Как это?
– Обыкновенно. Привязываем твои часы к тросу лебёдки и майнаем за борт на двести метров. Посмотрим, настоящие они или так – самопал.
Ваня на минуту даже растерялся. Но сопровождавшая нас свита дружно поддержала мою идею:
– Давай, Иван, не дрейфь!
Ну не отступать же…
Лаборатория располагалась в носовой части. Для научных экспериментов, особенно, когда дело касается химреактивов, а других, как говорится, не держим-с, место не самое лучшее. Сколько раз, особенно когда судно шло носом на волну, научные опыты заканчивались битьём пробирок, разлитыми реактивами (подчас очень токсичными) и испорченными пробами. Обычно мои просьбы хотя бы на время проведения опытов сбавить ход судна капитаном оставались не услышанными. Что за блажь, он там, в лаборатории, какой-то ерундой занимается, воду меряет, а мы из-за него можем на рыбалку опоздать…
Но однажды и в рулевой рубке поняли, что это, всё же, не блажь…
Я тогда как раз колдовал над пробиркой с серной кислотой (не разбавленной), пытаясь растворить в ней маленький кусочек олова. И как раз в тот самый момент, когда процесс пошёл, судно сильно подпрыгнуло на волне, и содержимое пробирки выплеснулось мне прямо в лицо. Я инстинктивно зажмурил глаза, которые, всё равно, нестерпимо жгло, и, обхватив ладонями лицо, выскочил из лаборатории на палубу. Где-то там, посредине, стояла сколоченная из досок купель с брошенным внутрь брезентом, в которой ещё пару недель назад барахтались те, кто впервые перешёл экватор. Старпом уже не раз напоминал, что надо бы эту каракатицу разобрать. Но у команды всё руки не доходили. И слава богу. Я, перескочив через бортик купели, плюхнулся в грязную воду, сознавая, что именно вот такая горько-солёная щёлочь может спасти мои обожжённые глаза (всё-таки гидрохимик). Жечь стало чуть меньше, и я с опаской (неужто ослеп?), очень медленно открыл один глаз. Было больно, но я видел! Тогда я открыл второй. Он тоже оказался цел или почти цел, потому как после той злосчастной экспедиции я уже никогда не расставался с очками. И всё-таки я был безумно счастлив, что этот удивительный, этот прекрасный, этот многоцветный мир для меня не погас. А мог…
Казалось бы, тот акробатический кульбит, когда рулевой следил не за курсом судна, а за тем, как какой-то сумасшедший научник, даже не сняв одежды, плещется в грязной купели, должен был заставить тех, кто стоит за штурвалом, понять, что моя просьба была не блажь. И в тот раз, когда я чуть не ослеп, это наверху наконец-то поняли. Но уже через пару дней (тем более, всё обошлось же) снова летели на всех парах за новой добычей, заставляя меня скакать по тесной лаборатории, жонглируя склянками с химреактивами.
Банка с соляной кислотой стояла там, где ей и положено было стоять: за ящиками с глубоководными термометрами, поверх которых я для маскировки набросал грязной ветоши. А что делать, коль за этими термометрами на судне шла нешуточная охота. Ещё бы, ведь в каждом таком градуснике почти по 100 граммов ртути. А это дополнительная валюта. Ведь за эту ртуть на тамошнем рынке такие деньги отвалить могут… Тут никакие расписки вести себя достойно образа советского моряка не помогут. Проверено!
Похоже, Ваня и без меня знал, где стоит банка с кислотой, и это меня несколько насторожило. Мне что, вообще, в этой лаборатории ночевать, охранять, так сказать, социалистическую собственность? Тем более что без этой собственности мне вообще в рейсе делать будет нечего. А вот на берегу будет что…
Впрочем, сейчас о термометрах никто и не думал. Все жаждали зрелищ. Даже на полдник никто не пошёл.
Я ощущал себя неким алхимиком. Только алхимиком наоборот. Те из дерьма конфетку делали, в виде золота, мне же из конфетки (перстня индейского вождя) предлагали сделать исходный материал для алхимиков. Впрочем, эксперимент мог и провалиться, и я очень на это надеялся. Уж больно перстень был хорош.
И ведь не подвёл. Выдержал! Два часа, проведенные в стопроцентной соляной кислоте, сделали перстень даже ещё лучше, прибавив ему дополнительного блеску. Да, не зря я за него двадцать тысяч солей отвалил. Как пить дать, не зря! Что подтвердила и группа поддержки.
– Классный перстень! Крутой! Ворованный, наверное…
Теперь все переключились на Ванины часы. Гулять, так гулять! «Мортима» это или не «Мортима»? И мы пошли всей дружной компанией на палубу, к лебёдке.
Ваня нехотя вынул из своего безразмерного кармана часы и протянул их мне.
– Одни? – зашумела толпа. – Нет, давай все! Для чистоты эксперимента!
И Ваня, этот огромный, мускулистый богатырь с устрашающе мохнатыми бровями на абсолютно лысой голове, сдался. Дал!
Завизжала лебёдка. И шесть новеньких часов, привязанных к стальному тросу вместе с увесистым грузом, ушли под воду. Я смотрел на стрелку счётчика, она вращалась подозрительно медленно: 10 метров, 20, 30… Похоже, что-то пошло не так. За время работы в «Промразведке» уж сколько раз я выполнял эти глубоководные станции, с каких только глубин не извлекал из пропустивших через себя не один пуд морской соли батометров пробы воды. И всегда всё было в порядке. А тут…. Как специально. Я бы уже давно прекратил эксперимент, но собравшиеся требовали идти до конца. Иначе не в счёт. И я продолжал опускать груз всё глубже и глубже. Ну вот и нужная отметка.
– Вира! – скомандовал кто-то. И трос побежал вверх, разбрызгивая вокруг себя веером вялые струйки воды. Народ столпился у борта в ожидании чуда. На счётчик уже никто не смотрел. А тот творил чудеса. Добежав до нуля, стрелка продолжала стремительно нарезать круги: минус сто, минус двести, минус пятьсот… Хорошо, кроме меня этого никто не видел… А если и видел, то не понял. Похоже, я вместо двухсот метров смайнал Ванины часики на два километра. Как раз на те два километра, которые, как он думал, и должны были выдержать его «Мортимы». Жаль, я его переубедил.
И вот из воды появился смахивающий на пушечный снаряд груз и привязанные к нему шесть блестящих браслетов. Но без часов. Не то чтобы совсем без часов… Корпус у них всё-таки уцелел. А вот все внутренности: стрелки, циферблаты, шестерёнки, рубиновые камушки и даже задние крышки – бесследно растворились в океанской пучине. Сами же часы, вернее то, что от них осталось, больше смахивали на старинные монокли. Только без стёкол.
Я не мог без жалости смотреть на Ваню. Ведь я лишил его радости осчастливить подарками (глубоководными французскими часами «Мортима») своих многочисленных братьев, проживавших в тихом белорусском селе с единственным водоёмом, который летом и вброд перейти – не проблема.
Но, видно, зря я его пожалел. Потому как Ваня, похоже, особо и не расстроился. Или сделал вид, что не расстроился. Куда больше, чем его, выброшенные коту под хвост, подарки, его волновала судьба моего перстня.
– Ну и что – соляная кислота, – продолжал он гнуть своё, – это ещё не доказательство, что твой перстень золотой. Давай мы его в царскую водку опустим. Вот это будет по-честному. Царская водка сразу покажет: настоящий твой перстень или фальшивка. Ты знаешь, как царская водка делается?
– Слыхал, – ответил я.
– Ты слыхал, а я знаю. – И Ваня направился в лабораторию. Похоже, ему всё тут было знакомо. По крайней мере, банку с серной кислотой он тут же обнаружил. Она стояла за пустой, с густым тёмно-коричневым налетом нерастворимых дрожжей, двадцатилитровой бутылью из-под дистиллята.
– Что, брагу гоните? – ухмыльнулся Ваня, отодвинув дурно пахнущую ёмкость. – Во – «наука»!
– Ага, гоним, – поддакнул я. Что я ему буду объяснять, что эта, источающая тошнотворный запах, бутыль – дело рук электромеханика Володи Кобякова?
Этот Кобяков к нам в каюту завалился чуть ли не через две недели, как мы вышли в рейс. Нос у него, несмотря на сравнительно молодой возраст, уже приобрёл сочный рубиновый оттенок. Под стать носу были и уши. Они торчали перпендикулярно голове и постоянно горели. Да и весь его вид говорил о том, что парень мучается. Причем каждому было понятно, чем.
Вот мы и пожалели. На свою голову. Дали ему пустую бутыль для его бражных дел. Но, видимо, у Кобякова всё внутри так горело, что дегустировать свою бражку он начал чуть ли не на второй день после того, как заварил. А уже через неделю бутыль была полностью пуста, но с толстым-толстым, ничем не разъедающимся налетом так и не успевших, ввиду Володиного нетерпения, раствориться дрожжей. А ведь нам эту бутыль ещё после рейса сдавать надо. Но как? В таком виде!
– А мы и твою флягу царской водкой очистим, – сказал Ваня. Похоже, толк в ней он знал.
Не прошло и пяти минут, как раствор был готов. Хотя до конца я не уверен в точности пропорций серной и соляной кислоты, но перстень, кинутый в него, выдержал и это испытание… Несколько минут. После чего стал блекнуть, тускнеть и расползаться.
Ваня торжествовал!
– Ну что, убедился? Надул тебя индеец. Монтигомо!
Не скажу, что я тогда слишком расстроился. В конце концов, я и не собирался этот перстень носить. Но было, всё-таки, немного жаль, что я его никому из друзей так и не показал. Красивый был перстень, хоть и не золотой. Однако мне было интересно узнать: что ж это за царская водка такая и для чего она нужна. И вот что я узнал:
«Царская водка – смесь концентрированных азотной и соляной кислот – придумана алхимиками. Обладает способностью растворять «царя металлов» – золото…»
Так что ж это?.. Получается, я собственными руками, добровольно, в полном здравии, ясном уме и твердой памяти превратил свой золотой перстень в кусок… В общем, даже и говорить не хочется, во что я его превратил…
А ведь, может, этот массивный, отполированный до ослепительного блеска перстень действительно принадлежал когда-то какому-то индейскому вождю. Кто знает? Да теперь никто… Но было, было в нём что-то манящее, завораживающее, гипнотизирующее. Было!
Хитрая наклейка
Морские истории
Когда-то половина нашего города ходила в море. В их числе был и я. И хотя морская жизнь – не сахар, но, наверное, нигде не случалось столько казусов, анекдотических случаев, розыгрышей, как во время этих длительных рейсов. Случались они и на тех судах, на которых приходилось работать мне в качестве инженера-гидролога. О некоторых из них я и хотел бы рассказать.
Долгие годы в Калининграде существовала контора под очень громким названием – «Запрыбпромразведка». Это название так настораживало чиновников в разных инпортах, что нередко нас туда просто не пускали. Ещё бы! Найдите вы в какой-нибудь другой стране организацию, где бы так откровенно и нагло звучало слово "разведка". Для многих мы так и остались морскими шпионами, добывающими какие-то промышленные (а может, и не промышленные) секреты для своей могучей державы. На самом же деле вся наша разведка заключалась в поиске новых районов промысла для отечественных рыболовных судов. И потому вместе с рыбаками на этих научно-поисковых судах работали мы, «научники», или ещё проще «наука», как называли нас буквально все члены экипажа от капитана до матроса. Мы выполняли гидрологические станции, определяли половозрелость рыбы и делали массу всяких других опытов.
А все эти опыты немыслимы без хорошего крепкого чая. Да вот незадача, до окончания рейса было ещё далеко, а заварка у нас полностью кончилась. Все наши попытки выклянчить её у кока ни к чему хорошему не привели. Тот и слушать ничего не хотел, цепляясь, как скупой рыцарь за набитые золотом сундуки, за свой чай, причём даже не индийский.
А надо сказать, что в то время не было более ценных вещей, которые моряк привозил из рейса, чем жевательная резинка, растворимый кофе и консервированные ананасы. А мы как раз только что загрузились этими колониальными товарами в одном африканском порту.
– Давайте мы у нашего кока выменяем банку ананасов на чай, – предложил как-то Саня Болотов. – Уж перед ананасами он точно не устоит.
– Жалко ананасы отдавать, – возразил Володя Иванченко. – Мы их всё-таки за валюту покупали.
– А мы и не будем отдавать, – сказал Саня и хитро ухмыльнулся.
– Это как? – не поняли мы.
– А очень просто, – стал делиться тот своей идеей:
– Вы знаете, что в машине у механиков имеется солидол?
– Ну и что? – мы никак не могли уловить логической цепочки между чаем, ананасами и солидолом.
– А во что упакован этот солидол? – продолжал интриговать нас Саня.
– В банки жестяные, – ответил за всех Володя Иванченко. – Он частенько ошивался в машине, хоть ему там и делать было нечего, выклянчивал у приятелей-мотористов какие-нибудь списанные железяки для своих ненужных поделок, а то и просто бегал поживиться сгущенным молоком, которое тем давали за вредность и на которое, в отличие от Володи, они смотреть уже не могли. А он мог.
– Правильно! – и Саня, как заезжий факир, вынул из пустого рукава какую-то блестящую банку без опознавательных знаков и поставил на титровальный столик, рядом с электроплиткой, на которой мы ещё на прошлой неделе заваривали чай. Из другого рукава он извлек ещё одну банку с ананасами и взгромоздил на первую.
– Сличайте! – торжественно произнёс Саня, обводя простертой дланью сооруженную им пирамиду.
– Ну-у, – мы всё ещё не могли понять в чём подвох.
– Да как вы не видите, что обе банки совершенно одинаковые: и по высоте, и по диаметру! – голос у Сани звенел, словно он и впрямь выступал на арене цирка. – Вот мы коку такую банку и подсунем…с солидолом. А чтобы он не догадался, что мы его разыгрываем, мы на неё солидол наклеим этикетку с настоящих ананасов.
Идея всем понравилась. А что? Раз по-хорошему не понимает, придётся идти на хитрость. В конце концов, что важнее – чай или научная работа? Понятно, что… А без чая у нас вообще мозги засохнуть могут. Тем более, когда других, более крепких напитков на всём судне днём с огнём не найти. Разве что у капитана. Но тот уж точно не даст…
Так и сделали. Получилось даже лучше, чем предполагали. Поставь рядом – не отличишь, где ананасы, а где солидол.
– Ну, кого на амбразуру бросим? Добровольцы есть? – Иванченко выжидающе посмотрел на каждого из нас, в надежде, что кто-нибудь даст слабину. Но мы молчали. Даже чай пить расхотелось.
– Ты пойдешь, – Володя ткнул в меня морщинистым лиловым, ну точь-в– точь, как у пожилого шимпанзе, пальцем. После того, как он умудрился уронить на себя бутыль с азотнокислым серебром, а работал он в лаборатории обычно обнаженным по пояс, демонстрируя окружающим и в первую очередь изредка заскакивающей к нам прачке Кате свои выдающиеся бицепсы и не менее выдающийся волосяной покров, он вообще стал смахивать смахивал на крупного примата.
– Опять с грязными руками за стол садишься, иди, помой, – подначивал его каждый раз в кают-компании механик Эдик Соколовский. Он сидел рядом с Иванченко, и ему было неприятно смотреть на его чёрные лапы шимпанзе. Особенно, когда Иванченко этими немытыми лапами лез за хлебом, солью или перцем.
– Сиди, сам подам, – перехватывал он его жест.– Ещё заразишь тут всех. Будем, как ты, по веткам скакать…
И хотя Иванченко постоянно убеждал всех, что лапы у него, то есть руки чистые, а это всего лишь пигментация, вызванная ожогами окиси серебра, и что всё это скоро пройдёт, каждый старался держаться от него подальше. В том числе и кок. Мало ли что… И вряд ли бы он из его рук что-нибудь взял. Зато теперь Володя был как бы вне конкуренции и имел право сам решать, кому идти в логово сурового кока, а кому ждать в засаде.
Понятное дело, что все тут же поддержали мою достойную кандидатуру. Нашли, так сказать, козла… самого молодого, самого вежливого, тактичного… В общем эпитетов, причем самых лестных, мне тогда не пожалели. Я даже не подозревал, насколько подхожу на эту почётную роль парламентёра. И я пошёл.
– Не дам! – сразу же заявил Потрашков ещё до того, как я произнёс первое слово. Ну а зачем бы ещё я стал крутиться вокруг камбуза…
– Кому я вообще интересен? – жаловался он как-то, захмелев, после очередного захода. – Всем от меня только что-то надо: кому сахар, кому дрожжи, кому и то, и другое… А чтобы позвать, продегустировать, ага, как же, дождёшься…
И, наверное, был прав. Но я не мог расслабляться, ведь за моей спиной стоял целый научный коллектив, который верил в меня…
И я пошёл на Вы…
– У меня для вас есть выгодное предложение, – произнёс я заготовленную заранее фразу, хоть никогда раньше Потрашкова на вы и не называл.
Кок насторожился и подозрительно, но с нескрываемым любопытством посмотрел на меня, к нему еще никто так не обращался.
– Что?
– Вот что… – почувствовав, что Потрашков дал слабину, сказал я, вынув из пакета банку солидола. Выглядела она очень даже аппетитно, что, зря мы её полдня в заморское платье наряжали.
– Меняемся, а? Я – ананасы, ты – чай. По-моему очень даже выгодно, – не дал я ему опомниться.
– И не жалко? – искренне удивился кок. – Что, так припёрло?
– Ага, – поддакнул я, – не то слово… – Похоже, лёд тронулся.
– Чефирите вы там, что ли там, в лаборатории? – Потрашков не мог скрыть своей радости. Вот идиоты, а ещё наука. Ананасы на заварку менять. Извращенцы…
Он даже сочувственно посмотрел на меня, как на больного, и, быстро выхватив, чтоб я, не дай бог, не передумал, пакет с банкой, исчез в своей сокровищнице.
– На, держи, – через минуту протянул он мне пачку чая. Индийского! «Три слона»… Во, расчувствовался человек.
Мне даже как-то неловко стало. Я вдруг ощутил угрызения совести. Или что-то вроде того. Но радость победы над грозным соперником всё же пересилила. В конце концов, не велика потеря…подумаешь, пачка чая.
– Живём, ребята! – издав воинский крик, я влетел в лабораторию, гордо вскинув над головой, словно боевое знамя, маленький жёлто-лимонный пакетик минутного счастья.
Помещение огласилось троекратным «Ура»! Операция «Фальшивые ананасы» прошла успешно. И мы на целых два дня были обеспечены добротным индийским чаем. Но может потому, что он был индийским, а не каким-нибудь безликим под непонятным номером, а может, в силу нашей интеллигентности, хотя в море понятие это весьма относительно, но нам вдруг стало жалко Потрашкова. Вот вернётся он домой, и подарит кому-нибудь из близких, знакомых или даже родных этот солидол в ананасовой личине. Что о нём подумают те, кого он «осчастливит» таким подарком? Ничего хорошего. Ну разве он заслужил такое? Конечно, парень он не сахар: прижимист, ленив, без всякой фантазии – каждый день одним и тем же кормит, глаза б на эти кислые щи уже не смотрели, да и умишком не блещет. Но всё равно, как-то нехорошо… Тем более чай какой душистый. Давно такой уже не пили…
– Серега, – сказал Иванченко, – сходил бы ты к Потрашкову, покаялся, пока он скандал нам всем не учинил… Объяснил бы ситуацию, что это шутка такая была, розыгрыш. А чай мы ему на берегу вернём, если, конечно, он так ему нужен… Или ананасы.
Ну, Володя, ну, молодец, дважды за день меня под танк кинул. И это награда за то, что я добыл ценнейший трофей в виде пачки чая. И не абы какого. Индийского! «Три слона»! Но теперь, когда все уже вдоволь напились этого чаю, подвиг мой таковым никому не казался. А вот Потрашкова все жалели. И считали, что, раз уж я его так жестоко обманул (ага, как будто больше никто в этой афере не участвовал), то и идти каяться должен только я.
Потрашкова я застал на палубе, возле траловой лебёдки. По его печальному виду было ясно, что случилось что-то непоправимое. В руках он держал вспоротую банку. Ту самую, что пару часов назад я ему втюхал под видом консервированных ананасов. Что ж ему так приспичило, до берега, балбес, не мог дотерпеть. А ещё нам что-то говорит.
Я понял, что пропал… и был готов ко всему. Но первая же фраза Потрашкова повергла меня в шок.
– Гады, негры, – горько произнёс Петя. – Нет, ну какие гады…
Я оторопел.
– Что?
Кажется, наш кок умом тронулся. И я, я был причиной его помешательства. Господи, да из-за чего! Из-за банки каких-то паршивых ананасов…
– Петя, ты что? – я подбежал к нему и стал трясти изо всех сил, как будто это могло вернуть на место его и без того не шибкий ум.
– Вот, полюбуйся, – Потрашков протянул мне открытую банку, из которой торчала гнутая алюминиевая ложка. Похоже, Петя уже пару раз прикладывался к ней.
– Представляешь, ананасы гнилые подсунули… Воняют!
– Что? – чего-чего, а такого поворота дел я ну никак не ожидал.
И даже не знал, что теперь делать: признаваться, что это мы над ним так жестоко подшутили, или свалить всё на африканскую консервную промышленность. А почему бы и нет? Что, у нас только такое бывает?
– Да, – поддержал я бедного Потрашкова. – Гады. Но ты так уж сильно не убивайся. Бывает… Пошли лучше с нами чай пить.
Бедный боцман
Эту историю мне довелось услышать во время одного из научно-поисковых рейсов на РТМС «Куликово поле». И хотя рассказавший ее матрос Кошечкин утверждает, что здесь нет ни одного слова вымысла, за достоверность ее я все же не ругаюсь…
Хотя, с другой стороны, в этом мире все возможно. И даже такое…
Из рассказа матроса Кошечкина.
Работали мы тогда у берегов Африки. И вот случилось так, что наш боцман заболел. На судне врача не оказалось, его на плавбазу увезли с аппендицитом, а от тех пилюль, которыми старпом пичкал больного, тому становилось все хуже и хуже. Что делать? И хотя сдавать больных в инпорты у нас было не принято – чтоб не разбазаривали государственную валюту, капитан решился на крайнюю меру – отправить боцмана в ближайший порт на лечение. Однако без разрешения мы туда зайти не могли. Поэтому капитан стал по рации связываться с берегом.
Мол, так-то и так, у нас на судне находится больной, которому необходима экстренная медицинская помощь. Один раз вышли на связь, другой… Тишина… И вот, когда мы уже потеряли всякое терпение и решили без разрешения идти в ближайший порт, вдруг на горизонте появляется катер и направляется прямо к нашему судну.
Выходят оттуда двое военных моряков и без всяких слов забирают к себе на борт нашего обессилевшего боцмана… Пока мы очнулись – что да как, катер уже тю-тю, исчез за горизонтом… вместе с больным… Кто это был? Куда забрали нашего боцмана? Никому не известно…



