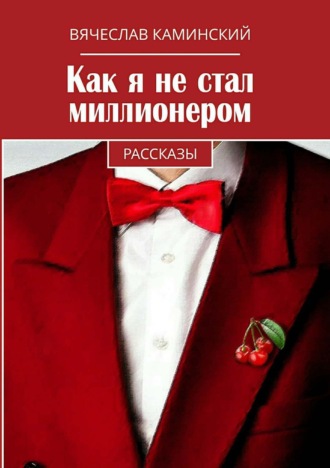 полная версия
полная версияКак я не стал миллионером
Покружили мы на месте еще немного и пошли рыбу ловить.
План-то нам никто не отменял. А каждое утро ровно в семь возвращаемся на то же самое место, где у нас боцмана похитили, и на связь пытаемся выйти. Только никто не отвечает.
Так проходит неделя. Вторая. Ну, думаем, все, пропал наш боцман…Сгинул в безбрежных африканских просторах…
И тут снова появляется на горизонте тот же самый катер, причаливает к нашему судну и те же самые два военных морячка, а может и не те, но похожи, выносят нам нашего бедного боцмана. Живого! Но вид у него – мама не горюй! Если сдавали мы его хоть и больного, но достаточно упитанного, то теперь перед нами стоял иссиня-черный скелет, обтянутый кожей и с очень голодными глазами. Но здоровый.
Накормили мы нашего боцмана и давай его расспрашивать – где ж его, бедного, так лечили? Он сначала отмалчивался. А потом все ж поведал свою душераздирающую историю.
Оказывается, там, куда его отвезли, больниц вообще нет! А только лазареты, или точнее – лепрозории, то есть такие резервации, куда больных свозят.
У каждого там свой шалаш имеется. И все… Остальное – дело техники: выживешь – тебя обратно к здоровым отвезут. Не выживешь – на то божья воля… Вся надежда только на родственников. На их доброту и заботу. Только они к этим больным и приезжают. Привозят им еду, воду, лечебные снадобья… А у нашего боцмана в Африке, как назло, никого… Хоть волком вой. Он и выл. И волком, и шакалом, и гиеной. Пока его вой другие больные не услышали…
Жалко им стало никому не нужного белого моряка. Кто ему кузнечика жареного даст, кто кожурой от банана поделится, кто кокосовую скорлупку кинет… Но, как ни странно, а вылечился наш боцман. Напрочь хворь прошла. Хоть худой, а здоровый. Вот только нервный немножко, дерганый. А так ничего.
Говорят, теперь вообще не болеет.
Боится…
Нинка
Нинка была самой красивой девчонкой в нашем классе. Несмотря на рыжие волосы и крупные веснушки, несмотря на штопаные платья и стоптанные туфли, лишь только она появлялась, как четырнадцать пар мальчишеских глаз устремлялись на нее. Но она или не знала о своей красоте, или просто не придавала этому значения.
С Нинкиным появлением в классе все приходило в движение. Ее необузданная фантазия придумывала массу далеко не безобидных проказ, осуществлялись которые мальчишками непосредственно под ее руководством. Ее часто выгоняли из класса, вызывали родителей, но это мало что меняло. Училась Нинка далеко не блестяще, с ее характером, да еще в тот трудный переходный возраст, когда все хочется делать назло. Неважно кому, но назло. Это был принцип всех, кто попал под ее влияние.
Жила Нинка в нашем доме в большой семье, которая стала таять прямо на глазах. Сначала умер от рака отец Нинки, потом посадили в тюрьму ее старшего брата, вскоре бросилась под поезд, из-за несчастной любви, старшая сестра, а ее парень уже через месяц женился на другой девушке, которую потом часто можно было видеть с синяками.
Осталась Нинка с матерью и младшими братом и сестрой. Мать ее работала дворником: маленькая, слабая, она сильно уставала, и Нинка помогала ей по хозяйству, у них была корова и свиньи. Городок наш небольшой, и поэтому у многих имелось подсобное хозяйство. Но мы никогда не видели Нинку усталой, грустной. У нее хватало сил, чтобы, пригнав и подоив корову, покормив свиней, мчаться во двор для своих новых затей. И здесь, в нашей компании, в которую входили Павлик, Вовка, Рита, Надя и я, быть заводилой.
Мы носились до поздней ночи: забирались в чужие сады, устраивали засады нашим врагам с соседней улицы, искали зарытые в земле сокровища, катались во время ледохода по реке на льдинах. А еще мы любили ходить на дамбу, где, усевшись на подвешенную у дороги декоративную цепь, раскачивались и смотрели на гаснущие в небе облака, на загорающиеся звезды и мечтали. Здесь, вдали от города, куда не доносился ни лай собак, ни протяжное мычание коров, ни знакомые крики: «Вова!», «Надя!», «Павлик!» – наших родителей, мы были предоставлены сами себе. Это был островок нашей свободы. Лес, река, стелющийся в низине туман, в котором мы часто любили купаться, огромное звездное небо – все это принадлежало только нам, и расходиться отсюда обратно по домам, где нас ожидала родительская взбучка, очень не хотелось.
О чем мы там только не мечтали: и о дальних странах, и о внеземных цивилизациях, и о том, какой будет наша планета через тысячу лет.
В один из таких вечеров, вдоволь набегавшись и наигравшись, мы пришли на наше старое место и, рассевшись на цепи, стали рассматривать причудливо раскрашенные облака.
– Я когда вырасту – летчиком стану, – вдруг сказал Вовка, – красиво все-таки там, над землей, лететь.
– А я хочу быть шофером такси, – сказал Павлик.
– Кем? – засмеялась Рита.
– Шофером. А чего, они много получают. А ты, наверное, пианисткой, – повернулся он к Наде.
– Не угадал, – Надя тряхнула головой, – меня, между прочим, в музыкалку заставляют родители ходить, чтобы пианино зря не стояло. А я хочу быть, – она мечтательно закинула голову, – кондитером или артисткой.
– Никаких или, – возразил я, – или кондитером, или артисткой. Я вот тоже хочу быть только летчиком, и не потому, что там красиво, а потому…
Но Рита не дала мне договорить.
– А я буду учительницей, – сказала она. Вовка засмеялся.
– Ты чего? – обиделась Рита.
– Сама с уроков сбегаешь, зоологичку до слез довела, а хочешь учительницей, чтобы потом с твоих уроков сбегали.
– А я буду учить так, что никто не станет сбегать.
– Привязывать что ли будешь? – спросил Павлик.
– А ты чего молчишь? – обратилась Надя к Нинке.
– Да, Нин, – поддержали мы, – давай выкладывай.
– А я хочу выйти замуж и иметь детей, – сказала Нинка. Воцарилась тишина.
– Ты чего? – нарушил молчание Павлик. – Мы же не это спрашивали.
Действительно, Нинкин ответ был, как говорится, не из той оперы. То, что, когда вырастем, мы женимся или выйдем замуж, было само собой разумеющимся. Об этом даже нечего было и говорить. Но Нинка, сильно от-толкнувшись, так, что цепь под нами заходила ходуном, с какой-то упрямой злостью повторила:
– Да, а я хочу выйти замуж и иметь детей.
То ли от ее сильного толчка, то ли еще от чего, но цепь под нами не выдержала, и мы кубарем, со смехом полетели на холодную землю.
На следующий день мы не узнавали Нинку. Войдя в класс, она тихо села за парту и в течение всего дня не выходила из-за нее. После последнего звонка, когда уже никого не было в классе, она медленно вышла из-за парты и, прижимаясь обеими руками к стене, направилась в раздевалку.
– Что с тобой? – спросила ее проходящая по коридору учительница.
– Ничего, голова немного кружится, – сказала Нинка, – сейчас пройдет, – но ноги у нее подкосились, и она упала.
Нинку увезли в больницу, а через месяц привезли обратно. То ли неудачно сделанная операция, то ли прогрессирующая болезнь превратили ее из школьной заводилы в парализованную калеку. Нинка, которая ни минуты не могла сидеть без движения, была навечно прикована к постели.
– Надо же, чтобы столько горя на одну семью, – говорили соседи.
Все вокруг жалели девушку и ее мать, но жалели только за глаза, потому что, глядя на спокойное, уверенное лицо Нинки, которая знала, что все это временно, что она немного полежит и снова, как прежде, станет носиться по школьным коридорам, жалеть было нельзя. Она не нуждалась ни в чьей жалости даже тогда, когда не могла пошевелить непослушными пальцами.
Наблюдая, с каким упорством изо дня в день, сцепив зубы, она пытается непослушной рукой взять ложку, стакан, как заставляет сгибать одеревеневшие пальцы, соседи начинали думать: «А может, ошибаются врачи? Может, ее молодой организм победит болезнь? Кто знает?» Тем более что через месяц Нинка уже сама могла есть: руки и голова стали подчиняться ее воле, но ноги… Ноги по-прежнему оставались непослушными.
Да, все хорошо знали заключение врачей, знали, что двигательные способности рук и головы должны были со временем вернуться, что парализованными останутся только ноги. Но теплилась надежда: а вдруг… А вдруг сумеет Нинка вырваться из сковавшей ее болезни?
С ее болезнью как-то незаметно распалась наша компания. Казалось, ничего не изменилось, мы по-прежнему считали себя друзьями, но встречались все реже, а потом стали только здороваться. Мы не знали, о чем говорить, что делать. Возможно, мы становились взрослее. А может, нам просто не хватало Нинки.
Я по-прежнему навещал ее, приносил книги, рассказывал о школе. Я научил ее играть в шахматы, и уже через две недели она одержала свою первую победу.
«Как ей, наверное, больно, – думал я, – от того, что ни Надя, ни Павлик ни разу не зашли к ней, не поинтересовались, как она живет».
На мой вопрос «Почему ты забыла свою подругу?» Надя ответила:
«Некогда, экзамены в музыкалке, в школе завал…»
Когда Нинка сидела в своем кресле во дворе, Надя старалась пробежать так стремительно, что даже невозможно было понять: поздоровалась она с ней или нет.
Надя уже давно раздумала стать кондитером или артисткой, а готовилась поступать в музучилище, и из-за этого даже оборвала свой роман с Вовкой, потому что должна была уехать в другой город, где у нее будут новые знакомые и, конечно же, новая любовь. Она так ему и сказала:
– Надо нам забыть друг друга, так будет лучше.
Она могла себе позволить такую роскошь, как забыть
одного человека ради того, чтобы полюбить другого. И ей некогда было думать о Нинке, для которой такое простое дело, как выйти замуж и иметь детей, стало невозможным. Но Нинка не унывала. Она верила, что научится ходить. Каждый день, надев специальные ботинки, она брала костыли и пыталась сделать хоть несколько шагов. Из-за чего ее опасно было оставлять одну. Стоило кому-нибудь отлучиться, как, вернувшись, они находили Нинку лежащей на полу, с разбитым носом или лбом, пытающуюся подняться или хотя бы доползти до своего кресла. Тяжело было на все это смотреть. Нинка не сдавалась, но и болезнь не желала уступать тоже.
– Бьется как рыба об лед, – вздыхали соседки. Никто уже из них не верил в Нинкино исцеление.
– Медицина бессильна, – говорили они.
– Видно, уж такая судьба…
А Нинка, сцепив зубы и повиснув на костылях, пыталась заставить передвигаться онемевшие ноги.
Я окончил восьмой класс, девятый, готовился к выпускным экзаменам, а Нинка по-прежнему училась одному и тому же предмету – ходьбе. Ни одну из школьных дисциплин она не штудировала с таким старанием. Но все ее усилия были напрасны…
– Видно, уж такая судьба.
II
Мечты, мечты… Где ваша сладость? Вы остаетесь в детстве, милые, смешные и наивные.
Я не стал летчиком – не прошел в училище по здоровью, хотя никогда не болел и сейчас не болею, окончил институт, женился и работаю на заводе радиооператором. Очень редко встречаюсь с друзьями, хотя их не так уж много, и воспитываю сына Димку, который, когда вырастет, обязательно будет летчиком.
Однажды, возвращаясь домой, в почтовом ящике я обнаружил открытку, в которой было написано, что Н-ская средняя школа приглашает выпускников шестьдесят девятого года на вечер-встречу, посвященную десятилетию ее окончания.
– Неужели уже десять лет прошло? – подумал я. – Как быстро. Ведь все еще так свежо в памяти.
Я не решил – ехать или нет. Вечера подобных встреч в институте показали, что уже через два года не знаешь, о чем говорить со своими бывшими однокашниками. Но желание увидеть наш старый двор, школу, пройтись по знакомым улочкам к дамбе, где мы пропадали вечерами, любуясь принадлежащей нам вселенной, заставило меня пойти на вокзал и купить билет.
Гуляя по городу, узнавая и не узнавая его, я начал сознавать, что включают в себя два маленьких слова: «десять лет». Я учился, работал, и годы бежали незаметно, но сейчас, когда я увидел, как изменился за это время город, я ощутил всю величину бегущего времени. Школы нашей уже не было, вернее, она была, но в ней находилось какое-то административное учреждение, а новое здание школы белело на фоне тоже нового стадиона. Горели названия неизвестных мне магазинов, кондитерских, кафе.
– Чего не здороваешься, не узнаешь? – сказала женщина. Я взглянул на улыбающееся веснушчатое лицо с копной огненно-рыжих волос.
– Нинка?
Она держала за руку карапуза.
– Твой? – спросил я.
Вопрос был абсолютно неуместен, глядя на рыжие локоны и знакомые веснушки, облепившие личико малыша, не могло быть никакого сомнения в том, кто его мама.
– А чей же, – сказала Нинка так, будто рожать было ее основной профессией.
– Вот, а вы не верили, – сказала она. Но мне почему-то показалось, что она сказала не «вы не верили», а «ты не верил».
Я взглянул на Нинку. Ее серые глаза смеялись, как и много лет назад, озорно и дерзко.
– Ну что, рыжий, как дела? – потрепал я по головке малыша.
– Я не лызый, а золотой, – сказал малыш.
– Ах ты мой золотой! – Нинка нагнулась и взяла малыша на руки, которые раньше не хотели ее слушаться, которые роняли даже вилку и повисали, как плети, после каждого усилия.
Выходит, и в жизни случаются сказки… Надо только верить, очень верить. Назло всем. Как Нинка.
Ударник
Я ударник. Тот самый ударник, о котором ходит глупая шутка.
– Кто у вас сын? – спрашивают отца.
– Он у меня ударник, – с гордостью отвечает тот.
– Ударник чего? Производства?
– Нет, он у меня стучит на барабане.
Смешно? По-моему, не очень. Но это не мешает мне почти каждую неделю слышать все ту же шутку о гордом отце и его ударнике-сыне. Все смеются, кроме меня. У меня, говорят, нет вообще чувства юмора.
Я ударник. Я брожу по городу, прислушиваясь к шагам (стук каблучков, шарканье сношенных ботинок, звон кованых сапог), к дождю (беспрерывная дробь по стеклу, глухие удары по мокрым листьям, редкие шлепки по грязным лужам), ко времени (уверенная непоколебимость башенных курантов, холодный, ко всему равнодушный стук метронома, «ах, не успею» – золотистый циферблат на маленькой ручке, «я еще иду» – прерывистое дыхание каминных часов).
У всего есть свой размер, свой ритм. Четыре четверти – часы. Дождь – шесть восьмых. И звон капели – вальс.
Родители мои очень огорчены, что я предпочел скрипке барабан, они считают, что я испортил себе карьеру.
Мой дедушка был скрипачом. Он был скрипачом еще задолго до моего появления на свет. В то время он имел большую известность. Свидетели тому – пергаментные вырезки из газет и покоробившиеся афиши.
Иногда, когда к нам приходили гости, родители вспоминали о былой славе дедушки. Нам он не любил говорить о своем прошлом, но стоило кому-нибудь только намекнуть, что он хотел бы услышать «Мелодию» Глюка или «Сон пастуха» Вивальди, как дедушка послушно вставал из-за стола, брал скрипку и…
В основном он играл грустные, протяжные вещи. Звуки из-под его смычка выходили наполненные какой-то особой, ностальгической, что ли, печалью. Мягкий и в то же время грудной голос скрипки был настолько легок и прозрачен, настолько незаметными казались переходы от одного звука к другому, настолько значимыми-паузы, что аккомпанемент, столь необходимый для сольной игры, казался необязательным, ненужным.
Играл он много, но всегда останавливался чуть раньше, словно чувствовал, что начинает надоедать.
– Почему ты больше не выступаешь? – спрашивал я его.
– Стар, – отвечал он мне, – стар. Скрипке нужны молодые сильные пальцы, как у тебя. Скрипка – это женщина, она не признает дряблых старческих объятий.
По утрам он будил меня и после вкусно приготовленного завтрака начинал учить игре на скрипке.
– Ну что ж, молодой человек, – говорил он, – приступим.
Уроки затягивались, но, несмотря на то что от непрерывных, изнурительных упражнений пальцы у меня начинали неметь и я испытывал сильную физическую усталость, я все равно с каким-то необъяснимым остервенением продолжал мучить и себя, и скрипку. Быть может, желание превзойти своего старого учителя подстегивало меня. Ведь он говорил, что скрипка – женщина, которой нужны сильные молодые пальцы. А я был совсем юн, но уже первое романтическое чувство робко посетило меня.
В детстве я отличался богатым воображением. Я придумывал себе какую-то нереальную, празднично красивую жизнь. Жизнь с парусами, ночными серенадами, с выстрелами лепажских пистолетов, звоном шпаг и, конечно же, с великолепными балами (где музыка, сияние люстр и где – о, чудо! – едва заметная улыбка той, ради которой можно пожертвовать всем). Наверное, каждый проходит через это. Романтика и романтики кружат нам головы, мы упиваемся их романами, а потом в каждом прохожем видим героев «плаща и шпаги».
Одно время мы жили в общей квартире. И дедушке это нравилось. Пожалуй, только ему. Ни я, ни мои родители не испытывали большого восторга от общей кухни, темного коридора и вечно занятой кем-то ванной. Правда, дедушка больше всех ворчал, что «опять не попасть в туалет» или «сколько можно ходить взад и вперед, постоянно хлопая дверью». Но я видел, что ему нравится жить в этой квартире. Каждый вечер, когда жильцы возвращались с работы, он брал скрипку и начинал играть.
Играл он, стоя посреди комнаты в пижаме и тапочках, но весь его вид был таким, будто он вновь, как когда-то в юности, вышел на залитую светом эстраду, чтобы покорить пришедших послушать его людей. Обычно он играл те же самые вещи, что мы с ним разучивали утром, но сейчас они звучали совершенно по-новому. Голос у скрипки становился увереннее и в то же время мягче. Мне даже казалось, что дедушка волнуется, что у него немного дрожат руки.
Жильцы выходили в коридор и, делая вид, что чем-то заняты, прислушивались к доносившимся сквозь тонкую фанерную дверь звукам.
Дедушка никогда не играл произведения современных композиторов. Он их не признавал. Его кумирами на протяжении всей жизни были Моцарт, Гайдн и Вивальди.
– Но это же примитивные сладенькие мелодии, – как-то возразила на мое восхищение дедушкиными «кумирами» Танечка Михневич (она училась в музыкальной школе-десятилетке и уже мнила себя знаменитостью).
– Конечно, для своего времени они хороши, но сейчас их слушать, по крайней мере, скучно. Новые времена рождают новые имена. А твой Моцарт всего лишь история, не больше.
Она восхищалась Щедриным, Свиридовым.
– Послушай, какая оригинальная, какая необычная гармония, – говорила она, нажимая клавиши своего новенького пианино, – твоему Моцарту никогда бы до этого не дойти.
Мне было немножко обидно за Моцарта: не его вина в том, что он так рано родился. Но я не хотел возражать Танечке, потому что это она была той, из-за кого я все больше привязывался к своей скрипке.
Как-то все это я рассказал дедушке. Он только засмеялся.
– Кто более велик – Моцарт или Щедрин, – судить не нам. Их рассудит время. Но я вот что тебе хочу сказать: пусть твоя Танечка как-нибудь попробует сыграть того же «примитивного» Моцарта. Легкость классиков обманчива, и то, что так просто звучит, не так просто.
Окончив свой вечерний концерт, дедушка каждый раз стремительно выбегал на кухню и залпом выпивал стакан воды. Жильцы медленно расходились по своим комнатам. Мне казалось, что дедушка выходил на кухню вовсе не для того, чтобы утолить жажду, а чтобы убедиться, что его слушали, что он играл не напрасно. Потом он быстро надевал строгий костюм, брал плащ, скрипку и уходил. Я не знал, куда он ходит. Он никогда не говорил мне об этом. И это было тайной, постоянно мучившей меня. Быть может, по вечерам он учит своему мастерству какого-то бедного мальчика-сироту, в котором открыл необычайный талант. И я ревновал к нему дедушку. Я был готов еще больше отдавать времени скрипке, чтобы превзойти того безымянного скрипача. А может, он тайно от нас пишет музыку? Как призрак, завернутый в дымчатый плащ, он ходит по ночным улочкам, прислушиваясь к музыке города.
А может?..
О, сколько разных историй я придумывал для своего дедушки. С каждым годом они становились все правдоподобнее, хотя Дюма и Гюго все еще оказывали на них свое романтическое влияние.
Однажды, после школьного бала, мы гуляли с моим старым и верным другом Димой Кикас по вечернему городу. Настроение у нас было праздничным, домой идти не хотелось. Мы зашли в кафе «Снежок», заказали по двести граммов мороженого с сиропом, потом еще по двести и, полностью утолив свою страсть к сладкому, пошли бродить по полутемным улочкам. Горели вывески магазинов «Ткани», «Книги-ноты», «Универмаг».
– Смотри, какое красивое название – «Олеандр»! – сказал Димка. – Что это?
– В Крыму такое местечко есть недалеко от Ялты.
Мы подошли ближе. «Дегустация крымских вин
Массандре», – было написано на небольшой бумажке, приколотой к дверям ресторана.. Ниже шел перечень вин.
– Ух ты, смотри. Мускатное шампанское. Давай зайдем, я всю жизнь мечтал мускатное попробовать, – сказал Димка.
– А «Вдову Клико» тебе попробовать не хотелось?
– Ну давай зайдем, – стал уговаривать он меня, – я при деньгах.
– Вы куда, мальчики? – остановил нас швейцар. – В ресторане мест нет, только в баре.
– Нам в бар.
Мы взгромоздились на две тумбы, стоящие у стойки, и заказали по двести граммов шампанского. Бар располагался в просторном фойе, ничем не отгороженный, и поэтому можно было, сидя за стойкой, спокойно наблюдать за спускавшимися по широкой лестнице посетителями ресторана.
Женщины подходили к зеркалам, поправляли свои безукоризненные прически, расправляли невидимые морщинки на платьях; мужчины выходили на улицу, курили, заказывали коктейли у стойки и снова поднимались наверх.
А мы с Димкой сидели на своих постаментах, с отвращением отпивали мелкими глотками пузырящееся в бокале вино и блаженно закатывали глаза, восхищаясь «букетом ароматов», который якобы ощущали.
Нам нравилось казаться взрослыми.
Наверху заиграли. Это не было той громогласной электронной музыкой, которую запускают во всех ресторанах, пытаясь достичь того психоделического эффекта, который лишает людей рассудка. Играли вальс Штрауса, праздничный и немного печальный. Слышались голоса скрипки, виолончели, рояля. Это было очень необычно.
Как будто мы перенеслись из второй половины двадцатого века в его первую половину. Музыканты закончили играть, и сверху донеслись слабые аплодисменты. Так аплодируют обычно на очень плохом концерте.
Мне стало обидно за музыкантов, потому что играли они очень хорошо, но вряд ли кто прислушивался к их игре.
Зазвучал «Чардаш» Монти.
– Давай поднимемся, посмотрим, – предложил Димка.
Я никогда еще не был в ресторане, и тем заманчивее было его предложение. Мы допили вино и нерешительно поднялись по широкой лестнице наверх.
Рестораны в моем представлении рисовались тоже очень романтично – фарфор, сиянье люстр, официанты в смокингах, серебряные ведерки с шампанским, фрукты, сельтерская…
Было полутемно. Пахло водкой и еще чем-то. За столиками в основном сидели пожилые мужчины и женщины. Они что-то ели, пили, смеялись. Оркестр снова заиграл, в этот раз «Ах, Одесса». И все эти взрослые дяди и тети с шумом повскакали с мест, стали танцевать, лица их раскраснелись, по залу распространился запах пота, перемешанный с запахом духов.
Эстраду было плохо видно, и, еще не желая верить в то, что было правдой, я пробирался все ближе. На небольшом возвышении в черном костюме стоял дедушка и играл пошлую глупую сумасшедшую мелодию. Он все убыстрял темп, пальцы его, как маленькие червячки, извивались над черным грифом скрипки, но лицо по-прежнему оставалось невозмутимым. Он будто не видел этих, лишившихся рассудка людей, а, как заведенная машина, продолжал играть. Когда он закончил, все разразились бешеными аплодисментами. Они кричали, топали ногами, пытаясь выразить таким образом свой восторг. Потом кто-то подошел к дедушке и сунул ему в руку трешку, дедушка молча положил ее в боковой карман и, без предупреждения, снова заиграл.
Больше всего я боялся, что Димка узнает дедушку.
– Пойдем, – сказал я ему и выбежал на улицу.
– А ты знаешь, почему этот' танец называется «Семь сорок»? – спросил меня Димка.
Но я не мог и не хотел слушать его. «Все обман. Все, – думал я. – Зачем мне говорили, что музыка прекрасна, что она способна возвысить человека, сделать его добрее, чище?.. Что значат все эти слова, когда одни и те же пальцы способны играть «Лакримозу» и «…Одессу»? Ложь. Ложь. Все ложь».
Я не мог и не хотел понять, для чего, каким образом оказался на этой грязной эстраде мой дедушка.
Все те шоколадки, конфеты, что часто приносил он, полынной горечью обложили мой язык.
Я никому не сказал о своем страшном открытии, но больше ни разу не прикоснулся к скрипке. Родители мои очень огорчились, что я бросил заниматься музыкой. Они пытались силой заставить меня играть на ненавистной скрипке. Тогда я купил барабан и стал назло каждое утро колотить в него так, что дедушке приходилось прятаться от меня в ванной. Я барабанил еще и потому, что не мог слышать нежных, чистых и лживых звуков. Я боялся их так же, как Одиссей страшился песен сирен.



