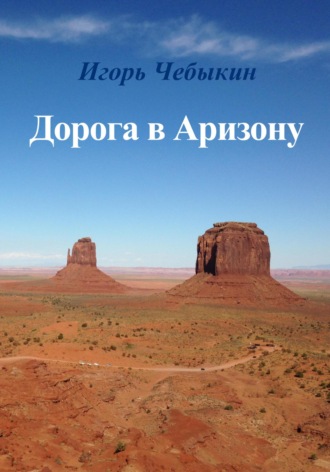 полная версия
полная версияПолная версия
Дорога в Аризону
Все шло замечательно, и Толик, ощутив забытые позывы вдохновения, как-то вечером даже написал стихи, чем не занимался с прошлого лета, когда безутешно вздыхал по Нике. На сей раз стихотворение получилось более сдержанным и было адресовано заснеженному пейзажу за окном.
Рукою в бархатной перчатке
Ласкает ночь уснувший город,
Истомой поцелуев сладких
Смягчая раздраженный холод.
На снежных простынях бесстыдно
Раскинувшись, бульвары дремлют,
Снежинки шлейфом нитевидным
Неслышно устилают землю.
Сутулясь на ветру сердитом,
Печально фонари мигают,
Волнуясь, маяком забытым
На небе звездочка сияет.
Ресницы льда сомкнули прочно
Глаза прудов зеркально-темных,
Дремоты океан полночный
Лениво катит свои волны.
И сны плывут, как бригантины,
То там, то здесь швартуясь робко,
И день святого Валентина
К рассвету пролагает тропку.
Этим навеянным зимней стужей творчеством Толик остался доволен не меньше, чем своими ранними любовными произведениями. Хотя долго ломал голову над тем, как лучше охарактеризовать глаза прудов – зеркально-темные или зеркально-томные. После нескольких взаимоисключающих зачеркиваний остановился все-таки на темном варианте, здраво рассудив, что томное по своей сути зеркальце встречается лишь у Пушкина в "Сказке о мертвой царевне", а темное – сплошь и рядом, достаточно погасить свет в комнате.
Про западный праздник – день святого Валентина – Толику рассказал Перс, вычитавший где-то, что это день всех влюбленных. Как раз в феврале отмечается. Вот это жизнь! Люди празднуют просто потому, что любят друг друга, а не потому, что в этот день кто-то кого-то сверг, победил, разбил и водрузил. У тебя есть девушка, ты ее любишь – вот и весь повод для праздника. Не то, что это нелепое 8 марта, когда чувство долга по отношению к товарищам женщинам напрочь убивает все другие чувства, когда подарки для, как назло, многочисленной женской родни приходится выпиливать лобзиком и выжигать паяльником, когда одноклассницам нужно покупать мороженую мимозу и одинаковых плюшевых ежиков или шкатулки для ниток. И что самое возмутительное: 8 марта – выходной день, а 23 февраля, когда девчонки дарят пацанам эти дурацкие брелоки с силуэтом Останкинской башни, – нет. Кто там борется за равноправие полов? Пожалуйте в СССР на 23 февраля – вот вам арена для борьбы!
…Да, а стихотворение-то хочется кому-нибудь показать. Начинающему поэту надоело писать в стол и скрывать свои изящные вирши от народа. Но кому же показать? Был бы жив дед, Толик показал бы ему. Но деда нет… Родителям? Исключено. Генриху Пуповицкому? Он, обиженный изменой Тэтэ, предал его анафеме и вряд ли захочет читать. Веньке? Этого стихи заинтересуют только в виде надписи на торте. Персу? Пацанам? Не поймут и засмеют. Нике? Ну, конечно – Нике! Вот кто способен воспринимать искусство и наверняка по достоинству оценит поэтические эксперименты Толика. Как интересно получается: он покажет Нике стихи, но не те, что были адресованы лично ей. Те она вряд ли когда-нибудь увидит. Теперь в этом уже нет никакой необходимости. Неисповедимы пути сердечные…
Однако на следующий день Толик не показал Нике стихов. Сначала в сутолоке школьного дня он все никак не мог улучить подходящий момент, чтобы всучить ей свой лирический манускрипт. А потом объявили, что умер Андропов, и стихи уступили место некрологам.
Глава 30
В жизни Толика и его сверстников это была уже второй случай смерти главного человека на свете – того, кого принято считать царем и Богом. Или лицом, их заменяющим. Однако в отличие от смерти Брежнева на сей раз ощущения конца времен и непоправимой вселенской катастрофы не было. Смерть начальника страны становилась привычной. А привычка убивает вернее смерти. Привычка сохраняет физическую оболочку, но, словно мясник, грубо потрошит душу человека, выскабливая из нее сильные чувства и переживания, способность улавливать волны счастья и горя, делая смерть менее страшной, а жизнь – менее ценной. Толик помнил, какую подавленную беспомощную растерянность вызвало в нем, обыкновенном советском школьнике, известие о смерти Брежнева. Да и взрослые тогда были напуганы и растеряны, как дети. Они шептались, что теперь непременно будет война, что громкий стук, произведенный опущенным в могилу гробом с телом генсека, – плохая примета, предвестник грядущих апокалиптических бедствий и потрясений. Старушки, лишенные моральной стойкости неплачущих большевиков и беспартийных советских людей, плакали и крестились. Однако никаких войн и бедствий не случилось, поэтому сообщение о кончине сменившего Брежнева правителя люди восприняли уже без паники и содроганий. Хотя и не без горечи. "Хороший был человек, – говорил Генрих Романович Пуповицкий коллегам по культурному цеху, дыша на них запахом печали и портвейна. – Генеральный секретарь и генеральный человек! Водку сделал дешевле и доступней для народа. А почему? А потому, что понимал: водка для нашего народа – второй кагор, суть напиток священный и к новой жизни возрождающий!.. Други мои, никто не окажет посильного денежного вспомоществования? Рублишек пять до аванса, большего не прошу!".
У несознательных же школьников весть о смерти генсека породила в несознательных мозгах и душах потаенную радость. Радость эта была безнравственной, преступной и антисоветской, поэтому ее тщательно скрывали от взрослых, в классных комнатах и коридорах разговаривали на эту тему вполголоса, опасаясь быть запеленгованными вездесущими учителями, давая волю эмоциям лишь наедине друг с другом. Пацаны радовались, зная, что теперь последует. А последует вот что. Вплоть до дня похорон генсека пацаны из средних и старших классов будут стоять с траурными повязками на рукавах в почетном карауле у портрета Андропова на втором этаже, сменяясь через каждые полчаса. Нужно ли кому-то пояснять, что лучше полчаса стоять в мирной тишине коридора, чем сидеть на уроке, ежеминутно рискуя головой и дневником?!
Но главный плюс ситуации, конечно, заключался в том, что в день похорон занятий в школе не будет. На головы школьников нежданно свалился выходной! Ну, как тут можно было не радоваться? К тому же, родители в этот день будут работать, а, значит, никто не помешает предаться упоительной неге внепланового, а потому еще более желанного выходного, омрачить который не смогут никакие погребальные мероприятия. "Хорошо все-таки, что ОНИ умирают не летом и не во время каникул, – сказал, выражая общее мнение пацанов, Дыба на перемене. – Это они правильно делают. Жизнь у них была правильная, и смерть тоже". "Это точно", – согласился Перс.
С Персом Толик договорился, что во вторник, в день похорон, он снова пожалует к нему на дачу – на сеанс подпольной, но свободной и красивой жизни. "Принесу классное штатовское крошилово – "Рэмбо" называется, – проанонсировал Перс подпольную телепрограмму передач. – Ну и "зарядка для переднего хвоста", конечно, тоже будет!.. Ноги на ширине плеч и все такое. (Он ухмыльнулся). Часиков в 11 и причаливай тогда, лады? Кола я предупрежу". Ожиданием новой встречи друзей на даче Толик жил субботу и воскресенье, которые едва ли не впервые в жизни показались ему долгими, унылыми и томительными из-за непрекращающегося потока монотонной музыки в телевизоре, венков, цветов, людей в Колонном зале Дома Союзов, скорби, холода, траурного крепа…
В понедельник какой-то незадачливый пионер в школе умудрился оскорбить память покойного, швырнув на перемене снарядом из скомканного тетрадного листа в приятеля, застывшего в почетном карауле у портрета. Снаряд попал именно в приятеля, а не в портрет, однако это не обелило бумагометателя в глазах завуча, в эту самую секунду вывернувшей из-за угла и ставшей очевидицей меткого, но крамольного броска. Сцапав обормота за ворот когтистой рукой, бородавчатая фурия голодным ястребом утащила его к себе в гнездо. Весь остаток перемены за подрагивающими дверями кабинета завуча слышались ее обличительные крики: "В стране траур!.. А ты, выродок, что?!.". И лишь звонок на урок прекратил экзекуцию пионера, вывалившегося в коридор пунцовым и зареванным.
Толик всего этого не видел и не знал. В тот самый момент они с Венькой возвращались после уроков домой (один из тех редких ныне случаев, когда пока еще друзья шли из школы вместе). Венька активно зазывал Толика назавтра к себе в гости – на вареники и шахматы. Толик вежливо отклонял приглашение, прикрываясь, как обычно, расплывчатыми фразами о собственной занятости и необходимости посещать репетитора. И надо же было такому случиться, что почти у самого дома, на улице Трудовой Доблести, они встретили Склепа. Склеп, в миру – Николай Петрович Расклепин, работал главным патологоанатомом городской больницы, что делало его фигуру в глазах мальчишек поистине демонической, а прозвище – единственно подходящим. Мальчишки слагали про Склепа легенды одну страшнее другой. Двоечник Пыхин клялся всеми своими двойками, что прокрался однажды ночью к тому крылу больницы, в которой располагался морг и, заглянув в освещенное окно, как в адский мангал, увидел склонившегося над трупом Склепа. "Прям вынул сердце и положил на блюдечко!..", – живописал Пыхин кошмарную явь онемевшим от ужаса приятелям. Пыхин, разумеется, мог кое-что присочинить. Как это водится у двоечников, обычно немногословный у доски он любил краснобайствовать в компаниях пацанов, среди которых слыл хулиганом, задирой и мастером на разного рода мальчишеские выдумки и каверзы. Однако Склеп внушал пацанам такой страх, что они готовы были поверить кому и чему угодно.
Парадоксально, но при этом во внешности Склепа не было ничего отталкивающего или устрашающего. Крупный и ловкий, как тюлень в воде, Николай Петрович двигался по жизни легко и уверенно, со сдобным лицом, тронутым нежно-сиреневой тенью на гладко выбритых щеках и подбородке. Наряд Склепа всегда включал в себя свежую рубашку и цветастый галстук, а в теплое время года – еще и шляпу, которую Николай Петрович манерно приподнимал при виде знакомого человека, сопровождая приветственный жест наклоном головы и получая в ответ столь же щедрые порции поклонов и улыбок. Горожане питали к Склепу неподдельное уважение, очарованные его вельможной вежливостью и осанкой, а также, может быть, и осознанием того, что в любой миг они сами или их близкие, голые и безжизненные, могут оказаться в руках этого человека перед тем, как навсегда покинуть этот мир.
Николай Петрович был не просто воспитанным и дружелюбным человеком. Он вел здоровый, спортивный и высокодуховный образ жизни. Вместе с супругой, такой же пухленькой и приветливой, они без устали упивались непреходящим мастерством певцов, плясунов и артистов разговорного жанра на концертах в Доме культуры; летом, подобно Ленину и Крупской в Париже, катались на велосипедах в городском сквере, а зимой, захватив с собой крепко сбитого паренька – их сына, снимали коньками рыхлую стружку с ледяной столешницы пруда в парке аттракционов. С сыном Расклепина, в итоге, и приключилась беда. Он вырос в статного молодого человека, был любим друзьями и девушками, "висел" на заводской доске почета, носил модные рубашки, джинсы клеш и серебряную цепочку с кулоном в виде лезвия. А потом его забрали в армию. Расклепин-младший был направлен в Афганистан и за пять месяцев до демобилизации пропал без вести в провинции Парван. "Не падай духом, Николай Петрович, – сказал, виновато дергая себя за усы, заместитель военкома города подполковник Меднолицын, сообщивший Расклепину-старшему горестную весть о сыне. – "Пропал без вести" не значит "убит". Значит, может выжить и вернуться. Всякое на свете бывает… Вот хотя бы мой отец!.. Мать в 42-м получила извещение: так и так, мол, ваш муж пропал без вести в боях под Старым Осколом. Как потом оказалось, немцы в плен его взяли: отец ранен был, в беспамятстве… Вот его и взяли. Сначала в концлагерь отправили, а оттуда – батраком в Вестфалию, в Западную Германию, стало быть. Можно сказать, повезло, что не сгноили в концлагере. А он и в Вестфалии выжил. После войны обратно к нашим через всю Европу добирался. А как добрался, наши тут же, не отходя от кассы, срок ему впаяли – за "предательство". Так он к нам с матерью только в 54-м году вернулся – через девять лет после войны! Но ведь вернулся! Мать верила, что он вернется, и он вернулся. И еще 17 годков после этого прожил. Так что, верить надо, Николай Петрович. И ты верь, обязательно верь, слышишь?".
Николай Петрович слышал и, наверное, верил, но черты лица его после этого известия померкли, поблекли и затуманились, будто лицо накрыли вуалью. Одним словом, с ним произошла та же внешняя и внутренняя метаморфоза, что в свое время и со стариком Валерьянычем, узнавшим о гибели собственных детей. Склеп и жена перестали ходить на концерты, на каток и в сквер, которые и при большом скоплении народа теперь казались опустевшими без этой прежде жизнелюбивой и деятельной пары. При встрече Склеп по-прежнему приподнимал шляпу, но делал это как-то машинально, рассеянно и неулыбчиво. "Сильно сдал Николай Петрович, – вздыхали горожане, глядя в его ссутулившуюся спину. – Оно и понятно: уж лучше бы убили парня, прости Господи, чем вот так… Даже на могилку к сыну придти нельзя…". У мальчишек же встреча на улице с патологоанатомом, дважды отмеченным печатью смерти – по роду деятельности и по причине трагедии с сыном – и оттого вдвойне зловещим, стала считаться дурным знаком, сулившим либо "пару" на занятиях, либо другие серьезные неприятности. О чем Венька не преминул напомнить другу, едва лишь они разминулись с понурым постаревшим Склепом. "Да брось ты, Венька! Не вибрируй! – ответил на это Толик. – Веришь, как бабка старая, приметам всяким!.. Ты бы лучше верил в великую силу лечебного голодания, троглодит!".
Глава 31
"Здорово! Чего опаздываешь? – приветствовал Перс Толика, когда на следующий день он переступил порог волшебной дачи. – Мы с Колом истосковались все, тебя ожидаючи". – "Проспал. Сам подумай: среди недели появился шанс выспаться, как следует. Вот я и не удержался". "Так проспишь все Царствие Небесное, Анатоль. А я сегодня с богатым уловом. Гляди!", – Перс протянул Тэтэ коренастую бутылку с этикеткой "Слънчев бряг" на вздувшемся стеклянном брюхе. В бутылке колыхалась жидкость цвета разбавленного чая. "Это что за слезы мулата?", – спросил Толик. "Это болгарский бренди! – голосом конферансье, объявляющего выход народного артиста, провозгласил Перс. – Хоть и болгарский, зато бренди! Ограбил я папеньку еще на одну, пусть и ополовиненную бутылочку! Разве я не молодец?". – "Ты – молодец, швец, жнец и для врагов п….ц. А отцу опять скажешь, что разбил?". – "Нет, блин, скажу, что с Толей Топчиным на брудершафт выпил!". – "А не допускаешь, что твой папенька задастся простым, но насущным вопросом: чего это сынуля так часто бьет бутылки с импортным пойлом?". – "У меня переходный возраст, я нервный, непредсказуемый, себя не контролирую и за действия свои не отвечаю. И это, кстати, не треп, пацаны. Со мной на днях такая история приключилась – хоть стой, хоть вой. Мать мне дома трешку дает – ну, на карманные расходы, а я, вместо того, чтобы положить трешку в карман, беру и рву ее пополам! В натуре! Пополам! Само собой как-то получилось, механически! Как будто кто-то толкнул меня, заставил это сделать… Мать чуть не заземлилась тут же. Не из-за трешки – за меня испугалась. К врачу потащила… Ну, тот и сказал – возраст, дескать, такой специфический, повышенная возбудимость, непроизвольные рефлексы, безотчетные поступки и тому подобная ахинея. Мол, для моего возраста это нормально. У вас, пацаны, ничего такого не бывает?". – "Ты имеешь в виду трешки на карманные расходы? Увы, со мной такого не бывает. А с тобой, Кол?". – "Не-а". – "Видишь, Перс, твой случай – исключительный, а потому особенно тревожный". – "Да нет, я про безотчетные поступки…". "А-а, ну отчего же, со мной бывает, – Тэтэ сделал таинственное лицо. – В последнее время меня буквально преследует странное желание: хочется встать во время урока истории, подойди к Тасе, развернуть ее к себе спиной, наклонить, задрать подол, стащить колготки и задушить ее этими колготками – прямо здесь же в классе. Вот только можно ли назвать такой поступок безотчетным?". Старенькие половицы заскулили от взрыва хохота и топанья ногами в пол.
"И, тем не менее, Перс, – вернулся Тэтэ от хохота к изначальной теме разговора. – А ну как отец твой догадается, куда алкоголь из дома пропадает? Любой наделенный даже примитивным интеллектом индивид на его месте догадался бы". – "Не нагнетай, Анатоль! Все-таки ты – человек, забитый и запуганный родителями донельзя!.. Постоянно боишься, что они тебя поймают на чем-то неподобающем… Как так жить можно? У меня в семье другие порядки. И я со своим отцом все вопросы как-нибудь решу, не переживай. Да он и не заметит ничего! У него этого соцлагерного дерьма – полный бар всегда". – "Так это – дерьмо? А что ж ты нам его тогда предлагаешь?". – "Это дерьмо в сравнении с лучшими образцами, вот что я хотел сказать. А само по себе – пойдет, пить можно. Ты вообще пробовал бренди?". – "Нет". – "Ну, это как виски, только похуже". – "А ты и виски пробовал?". – "А то!". – "Настоящий?..". – "Самый что ни на есть!.. Шотландский. "Катти Сарк". – "Ну, и как?". – "Как коньяк, только получше". – "Про коньяк я уж и спрашивать не стану – догадался, что ты и его пробовал". – "Ты очень проницателен, Анатоль. Ну, все, хорош трындеть, давайте пить!".
Толик взял бутылку в руки. "Слушай, Перс, а градусов-то здесь немало, – задумчиво сказал он, изучив этикетку с парящим в лазурной выси парусником. – Градусов-то здесь почти, как в водке. Не развезет нас? Не сбрендим мы от ентого бренди?". – "Это не такси, чтоб нас развозить. Ну, ты посмотри, Анатоль, – там меньше, чем полбутылки, а нас – трое здоровых молодых людей. И по сто грамм на каждого не выйдет… С чего развозить-то? Да и закусь я с собой из дома приволок. Вот колбаса, шпроты. Кол, там в буфете, в ящике консервный ключ должен быть. И вилки захвати". Солнечный напиток с солнечного болгарского берега разлили в знакомые потрескавшиеся чаши, еще хранящие липкие следы присутствия "чинзано". "Мне мою порцию всю сразу не наливай, – предупредил Тэтэ. – Я ее в два захода оприходую". "Одним махом оно забористее будет, но как хочешь, – отозвался Перс. – Ну, три танкиста приняли по триста!". Толик понюхал бренди, вздохнул, опрокинул в себя содержимое кружки и немедленно принял позу выброшенной на "слънчев бряг" рыбы – судорожно хватающей ртом воздух и беспомощной. Кол, сморщившись, тряс головой, как ребенок, которого все же заставили проглотить касторку. Лишь Перс спокойно кусал колбасный ломтик, забавляясь реакцией приятелей. На глазах у него, впрочем, выступили слезы. "Иди запей водой, – улыбаясь, сказал он задыхающемуся Толику. – На плите в чайнике должна быть". Глотнув из носика теплой, с хлопьями накипи водицы, Толик обрел, наконец, способность дышать и говорить. "Теперь я понимаю ощущения людей, которым в средневековье вливали в глотку расплавленный свинец", – заявил он. "Не преувеличивай, Анатоль, – ответил Перс. – Это намного приятней, чем свинец. Сейчас кайф придет. А если бы ты меня послушал и выпил всю свою дозу разом, кайфа было бы еще больше". "Ничего, я растягиваю удовольствие, – Тэтэ вытащил за хвост шпротину из масляной жижи. – Однако чайник-то почти пуст. А мне опять запивка понадобится. Да и чаю хлебнуть было бы неплохо, согреемся заодно". – "Тебе холодно? Мы с Колом пока тебя ждали, протопили немного". – "Сейчас тепло, потом будет холодно. Вы же не будете снова с дровами возиться. Ну, где тут у тебя вода, Перс?". – "Водопровод, как это ни грустно тебе сообщать, сюда не провели. Вода – в колонке за забором. Ведро – в сенях. Хочешь чаю – чухай за водой. А мы с Колом пойдем видак глядеть, нас сейчас порнушка согреет. Колбасу с собой бери, Кол, наверху и похаваем". "Ну, возымейте совесть! – взмолился Тэтэ. – Без меня не начинайте смотреть! Я ж не только себе, но и вам воды принесу". – "Ладно, не хнычь. Ждем".
Видео в этот день своей забористостью превосходило даже бренди. Приснопамятные "Частные уроки", недавно так поразившие Тэтэ, в сравнении с сегодняшним фильмом представлялись брачными играми ленивцев в амазонский полдень. Солнечный алкоголь горячими лучами пронизал тело Тэтэ, приятно отяжелив его. В голове было шумно и весело, и когда лестница на второй этаж исполнила свою традиционную скрипучую арию, и в комнате появилась Шерстицына – староста и комсорг девятого класса, Толик в первую секунду решил, что это пьяная галлюцинация. Но галлюцинация не исчезла. Она и не думала исчезать. Перс и Кол, судя по их лицам, тоже ее узрели. Сомневаться в реальности внезапно возникшей старосты не приходилось, и этот факт произвел на компанию парализующее действие своей непреложностью и омерзительностью. Шерстицына была типичной старостой: некрасивая, но умная и исполнительная девочка, примерная ученица. При этом Шерсть, высокая и плотная, с выпуклыми щеками и ягодицами, обладала самыми неприятными женскими качествами – мужланским характером и растительностью на лице: скулы Шерстицыной, в полном соответствии с ее фамилией, легчайшими перистыми облачками окаймляли темные волоски. Сейчас, на алой от мороза коже, эти волосатые скулы казались заштрихованными карандашом. "Шерсть?! Ты что здесь делаешь?.. – Перс, сбросил, наконец, с себя оцепенение. – Ты как сюда попала вообще?!". "У вас там внизу чайник почти выкипел, – спокойно ответила Шерстицына. – И бутылка какая-то на столе. Вы тут пьете, что ли? Совсем рехнулись?!". – "Не твое дело! Я спрашиваю: ты как здесь очутилась?!". "Топчин, я, между прочим, тебя ищу, – обратилась Шерсть к Толику, огибая взглядом свирепого Перса. – Мне позвонила Таисия Борисовна, просила передать тебе, чтобы ты завтра утром провел политинформацию – о том, как страна прощалась с Юрием Владимировичем Андроповым, как коммунисты во всем мире восприняли эту утрату. И вот я звоню тебе домой – никто не отвечает. Пришла к тебе – никто дверь не открывает. А ты, оказывается, вот где скорбишь… Что вы тут смотрите?". "Кино смотрим, – рявкнул Перс. – Шерсть, ты все, что требовалось, передала? Тогда гуд бай, арриведерчи!". "А что они там делают?", – по-прежнему не обращая внимания на Перса, Шерсть из-за его плеча глянула на экран, где плотоядного вида атлет, склонившись над биллиардным столом, безостановочно раскачивался, словно пассажир мчащегося по рельсам экспресса, заставляя нервно вздрагивать свору разноцветных шаров для пула, окруживших распластанную на столе стенающую блондинку. "В биллиард играют! – вконец обозлился Перс. – Особая техника владения кием, новый способ загонять шары в лузу!". – "Да это же… Боже, что за гадость вы тут смотрите?!". – "Гадость – это, если тебя раздеть и вместо нее на стол положить!". "Не хами! – Шерсть тоже начинала закипать. – Вчера в школе, по-моему, ясно всем сказали: смотреть сегодня по телевизору похороны. А вы пьете и ЭТО вот смотрите?! Ну, вы и подонки! В такой день!..". "Слушай, Шерсть!.. – взбешенный Перс так резко шагнул к старосте, что та, отшатнувшись, чуть не упала на бревенчатые перила. – Мы смотрели похороны, а теперь смотрим то, что считаем нужным! Я не в школе, а у себя дома, а они – у меня в гостях! А ты вали из моего дома! Быстро!". "Хорошо, – Шерстицына надела шапочку. – Но учтите: вам это аукнется!". – "Пошла вон, короста!..".
Толик интуитивно почувствовал: не надо было так разговаривать с Шерстью. Наоборот, лучше бы попробовать с ней договориться, тогда появилась бы надежда на то, что удастся избежать проблем. Однако высокомерный Перс, к тому же хмельной и злой Перс, конечно, на такое был не способен. Скорее небо упадет на землю, и Дунай потечет вспять… "Зря ты с ней так", – все же сказал ему Толик, когда Шерстицына ушла. "Толян, хоть ты не возбухай! – огрызнулся Перс. – Что ты за нее заступаешься? Будет еще всякая нечисть волосатая ко мне в дом вваливаться!.. И как она вообще пронюхала, что мы здесь собираемся?.. Кто-то из вас проболтался, что ли?.. Мы же договаривались не трепать языками!". – "Никто и не трепал! Что, мы враги себе? Кол, ты молчал?". – "Само собой". – "Ну, и я молчал. Нет, это кто-то посторонний навел… Посторонний, но каким-то манером осведомленный… Ладно, пойду чайник выключу".
Чайник бурлил уже не яростно, а обессиленно. Вода и впрямь лишь на дне осталась… Чаю, впрочем, уже не хотелось. Как и смотреть видео. Толик выудил еще одну рыбку из банки со шпротами, рассеянно сжевал ее, взял со стола пустую бутылку и понес в мусорный бак. На улице было безлюдно и неуютно. Ветер тормошил красный флаг на соседнем доме. Красный флаг с черной ленточкой, будто вплетенной в гриву коня… В душе у Толика проклюнулся первый росток тревоги – большой, серьезной тревоги. "Может, разойдемся сегодня от греха подальше?", – предложил он, вернувшись на дачу. "Ты чего?! – рыкнул на него Перс. – Из-за Шерсти, что ли?! Если она еще раз придет, я ее пинками из дома выгоню и в сугроб зарою!". – "Не в этом дело. Она настучать может". – "Ага, пусть рискнет здоровьем!.. Не поднимай кипиш, Анатоль, и кайфа не ломай! Садись давай! Сейчас это досмотрим, будем "Рэмбо глядеть".




