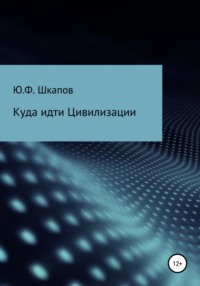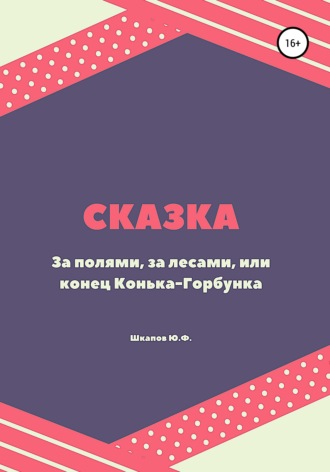 полная версия
полная версияЗа полями, за лесами, или конец Конька-Горбунка. Сказка
понесся лихой поток
по дорогам на восток!
21
Наш Никита – не отстать бы
от такой бурливой «свадьбы» –
шустро сбегал «в комсомол»,
доказал, что тоже, мол,
там он может пригодиться,
и не станет он рядиться,
(в деле ведь не так уж лют) –
будет там, куда пошлют.
Комсомольский комитет –
как отлаженный квартет:
сверху чуть труба построже –
снизу мигом вторят то же.
В комитете все согласны:
он – целинник первоклассный,
дать решенье в штаб, повыше.
На средину зала вышел,
Вроде б все свои вокруг.
Заробел, смешался вдруг:
в ряд за бархатом столов
сколько ж их сидит, «голов»,
комсомольцев руководства!
(Правда, часть от производства.)
И средь них… одна «головка».
Нет, совсем не как золовка –
как цветок, как вздох, нежна
комсомольская княжна.
То – сама хозяйка бала.
Вот легко плывёт по залу,
мило так кивнёт головкой
и вручит путёвку ловко.
Шёл по улице хмельной,
небо в красках, мир иной:
вот она, в руках путёвка!
Слышит, вслед ему с издёвкой
гоготнул, ругнулся смачно
паренёк на вид невзрачный:
"Х’рад, батрачить нанялся!..»
Весь Никита затрясся:
«Т-ты… – умнее? Порося!
Хрюкай, спи, чеши свой бок!»
И взглянул как только мог.
И пошёл своей дорогой.
Успокоился немного:
«Такова, видать, природа,
что в семье не без урода».
22
Взбудоражил всё окрест
тех целинников отъезд.
И, как водится (обычай,
вразумляй, не вразумляй), –
начинается с приличий,
а конец – одно: гуляй!
Сборы что, они коротки:
застегнуть косоворотку,
подтянуть ремень потуже,
и – желаем тебе, друже,
многи лета, многи годы!..
Собираться у завода.
А уж там, у проходной,
как в весенний выходной,
словно в праздник демонстранты:
и флажки, и транспаранты.
И оркестр играет тут же,
молодёжь асфальт утюжит.
Толкотня, веселье, шутки!
Вот плывёт начальство уткой,
все по случаю в парадном,
(как и все – «того» изрядно,
человеки ж, хоть и в свите).
Вот парторг готовит митинг,
люд вобрала круг-воронка.
Встал Никита чуть в сторонку.
«Жаль, не сбегал к Кузьмичу.
Надо будет извиниться…
Что б сейчас? Чего хочу?
Дом, село, родные лица…
И – Москва, страны столица.
Иль… покрепче похмелиться?»
«Хочешь, сходим поклониться?
Мавзолею, Ильичу?»
Тётя Дуся!..
Мысли комом –
так пахнуло родным домом!
Как она смогла понять?
Захотелось так обнять,
как несказанного друга!
Чуть земля поплыла кругом.
«…Встретим наших на вокзале.
А начальству мы сказали.
Вон Кузьмич там, у ворот».
Вот же люди! Эх, народ!..
Сердца лопнула пружинка,
бьётся мухой в паутинке.
«Я сейчас… вот… жмут ботинки».
«Эх ты, дитятко-детинка!..»
23
Кремль седой, седая даль.
Старина, святая Русь…
Так светла моя печаль,
так легка на сердце грусть.
Будет всё благословенно!
Площадь, древностью согбенна.
«Ленин» – как бы на стене.
Кремль. Москва. Страна Советов.
Русью всё зовётся это.
Ленин – всё зовётся это.
Разве жизнь дороже мне?
Счастье – ветер, переменно,
иногда не тем концом.
Но уж если не бойцом –
в главном, самом сокровенном,
никогда! – быть подлецом…
…На ветру стоят, молчат,
думой, как один, пронизан.
Поколенье Ильича.
Идеалов коммунизма.
24
Где билет? Какой вагон?
Звякнул колокол, как гонг.
Паровоз, коняка сытый,
в нетерпенье бьёт копытом,
из ноздрей парами пышет…
(Пой, кричи – никто не слышит,
всё вокруг гудит, как улей:
там смеются, тут всплакнули.
Обнимают внуков деды,
брата брат, сосед соседа.
Что их ждёт – приволье? беды?
И над всем: Даёшь Победу!)
…Сдал назад, как для разгона, –
переборный лязг вагонов
скрежетнул по сотням душ.
И оркестр тут грянул туш!
Целовались, руки жали,
за вагонами бежали.
Долго взглядами следили.
Провожали…
Проводили.
Паровоз бежит ретиво,
развевает искры в ночь.
Бьёт частушкою игривой,
сыплет маменькина дочь:
«Эх, я уеду на край света,
меня только разозли!
Посылай домой приветы –
посадили, повезли!..»
Удивительное время!
Ни наград не ждали, премий.
Как конфетой без фольги,
были общностью богаты:
копанём канал лопатой!
По вагончикам (из хаты)!
Двинем рельсы в глубь тайги!
Парням – в вуз, девчат – на трактор,
все – на стройки, все – на ГЭС…
И прокладывались тракты,
и стонал таёжный лес.
И не надо было КЗоТа:
хлеб, металл, тайга, забой –
это общая забота!
Как на бой, шли на работу,
шли, горды своей судьбой…
25
Ночь, казахский полустанок.
Где-то там, за Карталы.
Свет машин усталых рваный
гасят снежные валы.
В спешке сонной, молчаливой
слово стынет на лету.
Сердце бьётся сиротливо,
руки шарят – всё ли тут…
В тишине, нависшей звоном,
человек…
На ящик встал,
и совсем домашним тоном
доверительно сказал:
«Ну, скучает по жаре кто?
Там – тепло, и там наш дом.
Мы вас ждём. А я – директор,
познакомимся потом.
А сейчас – прошу в машины».
Взвилось криком петушиным:
«По машинам!
…По маши-на-ам!.».
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Мужание
Глава IV. Целина (продолжение)
26
Соком радости и жизни
тронь! весной живое брызнет.
Вновь весна звенит капелью.
Синь и солнце в вышине!
Резко пахнет талой прелью.
Дед в дремоте-полусне –
ух, как знатно припекает!
Кошка, лапки отряхая,
не спешит укрыться в дом.
Воробьиный гвалт-содом,
то-то чествуют весну!
Паучок спустился с крыши,
не иначе как к письму.
Не сейчас, так, верно, пишет…
Ох, Никита! Вот стервец,
изождались ведь вконец.
Что-то думает же он?…
Ба! А вот и почтальон!
Дед с письмом к окну на свет.
И сноха тут горемычно,
так, на краешке, привычно,
как положено вдове,
как сидят они вовек.
«Здравствуй, мама!..» –
Дед тут крякнул,
начал бороду скрести.
«Здравствуй, мама! Всё в порядке.
Мама, ты меня прости…»
Руки, мать сидит, скрестив.
«Здравствуй, мама…» – Мой сыночек!
Сердце, ох ты, погоди.
Дни и ночи, дни и ночи,
до такого… от груди.
Вспомнил, понял…
Грудь стеснило,
жар ли, холод, бьёт озноб.
Душно как, раскрыть окно б –
уж весна в оконной раме…
Как ты там, сыночек милый?
Дед прочёл, очки вверх сдвинул,
приподнял глаза и… замер:
это ль ты, моя сношонка…
Бог ты мой, и не узнать!
Перед ним сидела… Мать.
Гордо голову откинув,
отрешённо глядя вдаль,
молодая, как девчонка,
и… седая, как Печаль.
Волны радости и боли…
«Поля! Что ты, дочка, – Поля!»
Чуть дрожит в руках косынка.
Э-эх! Прости меня, мой сынка.
Море бед и горя реки,
и – забыл о человеке.
Человек из глаз пропал.
Руки-клешни, иссечёны.
Ноги-брёвна в жилах чёрных,
будто молнии припал.
Ступни грузчика-мужчины.
Всё лицо секут морщины.
С губ… рвёт радость, боли крик ли –
Боже мой, а мы – привыкли!
(Бабка – пусть земля ей пухом, –
та хоть как-то привечала.)
И – ни жалобой, ни звуком –
всё внутри, всегда молчала.
Вечность жизни. Изначало.
Вся очнулась вдруг смущённо,
будто стала как согрета
тихим внутренним подсветом,
как святые на иконах.
«Я… задумалась, отец.
Как он там, о чём же пишет?»
Ах ты, грех: заныл крестец,
закололо что-то выше…
«Д’скоро в армию ему.
Толком только не пойму:
уж домой он хочет, видно,
да, вишь, не с чем, пишет – стыдно.
Обнимает, пишет, предков,
крепко-крепко. Так-то – крепко!
(Взгляд у матери лучистый:
знать, умнеет понемногу.
А душой такой же чистый.)
…Деньги выслал на дорогу –
чтобы не было, мол, сбою;
жду я вас к себе обоих…
Ну а так – всё слава богу».
Повидаться – что дороже!
Вместе всем… Куда б как гоже…
Долго мать сидит в раздумье,
гладит кисти полушалка.
А хозяйство на кого же?
На соседа – ведь он кум ей?
И не ехать ох как жалко,
счастье послано судьбою.
Тихо, как сама с собою:
«Надо ж… около овец,
всё скотина, хоть и малость.
Поезжайте вы, отец.
Я уж будто повидалась…»
Гнал, как ересь, наважденье,
от себя поездку дед.
Будто в двадцать – день рожденья –
сон бежал и стыл обед.
А потом… как что-то сбило,
лихорадка зазнобила,
злость забрала, взмыл азарт
(как-никак тепло уж, март),
эх ты, где не пропадало!..
Стариной тряхнул удалой,
проводницу улестил
и к Никите покатил.
В ресторан пошёл обедать.
Целину решил проведать.
27
Ждёт Никита дальний поезд.
Разговор людской угас.
Провода метелью воют.
«…Странно. Тот же день и час.
Та же ночь. И полустанок.
Как тогда!
Там – Карталы.
Свет машин усталых рваный
гасят снежные валы…2
Сердце так щемяще-звонко!..
Обнял нежно, как ребёнка,
старика детина-внук.
«Как же деда годы гнут!..»
«…Два поди, как здесь, минуло», –
про себя сквозь слёзы дед.
«Давним детством как пахнуло!» –
взглядом внук ему в ответ.
Так на том же полустанке
(что когда-то был приманкой,
где вагончиков останки)
ровно «два годка» спустя
у Никиты дед в гостях.
Целина, она с порога
и была, и есть – дорога.
Времени не тратя даром
(вон как крутит снежным паром!
еле виден тёмный «газик»
дал директор свой, для встречи) –
дед кряхтя в тот газик влазит;
в самый раз начать бы речи,
да… ещё кого-то ждут.
Впопыхах шепнул Никита:
«Делегация… Идут».
(…Голос, будто позабытый?..)
Шутки, смех не так весёлый.
Из столицы, к новосёлам.
В темноте набились плотно,
позатихли враз дремотно.
Распахнул Никита дверку:
«Все? – спросил он для проверки. –
Дома будем… так, к обеду.
А тебе – тулуп вот, деда».
И закутал хлопотливо.
«Сам-то что же, непоседа?» –
«Я на свой извоз. Счастливо!» –
и шагнул к себе на трактор.
Застрелял «пускач» дэтэшки,
взвыл мотор, ровняя такты.
Лязг и грохот вперемешку:
где не так, мол, здесь – вот так-то!
Дёрнул – с богом! – на буксире…
Как всё разно в этом мире:
дед про печь свою тут вспомнил,
делегаты – свой уют.
И юзит машина-дровни,
и «дрова» во сне клюют.
Эх, целинные дороги!
Вечность только им сродни.
Неба Раки-Козероги
им маячные огни.
В свете фар струит позёмка,
колеи бугрится след.
Тормошит ДТ «газёнка»,
тот лишь крякает в ответ.
Долевые гребни-гряды
во всё поле, ряд за рядом
(как нарочно, снегопахом).
Рушит трактор гряды с маху,
бьёт стрельбой взахлёб дэтэшка.
И ползёт за вешкой вешка,
заметаясь снежной пылью.
Словно сказка въяве с былью.
То привычно для Никиты.
Голова ж другим забита:
дед и гости из столицы –
есть ему чем похвалиться?
Что такое «два годка»:
по спирали два витка
или так, мечты заплата?
Было всё, чем жизнь богата
в восемнадцать-двадцать лет.
Дальний край, своя зарплата,
быта свой кордебалет…
Первых дней шумливый табор,
молодые без узды –
ложку лишь не мимо рта бы…
Светлость Первой Борозды!..
Суховей… Надежд утрата?
Пытка, жгло всё на корню.
Стиснув зубы, боль упрятав,
хлеб пахали, как стерню…
Были песни, были слёзы,
пот в мороз, в жару озноб…
Стрекотали, как стрекозы,
величая Первый Сноп!..
У степи свои законы:
как натянутой струной,
урожай победным звоном
прозвенел над всей страной!
И сейчас всё в добром росте.
Что ж, пожалуйте к нам, гости:
мелководье воду пенит –
кто поймёт, тот и оценит!
Полыхнул восход неистов –
степь багряно-золотисто
вся зарделась, встав от сна.
Стоп машины.
Тишина.
Во-от какая… ц е л и н а!
Словно в зимней келье бесов,
зыбко, сумрачно, белесо.
Лишь восток пожар ярит.
Лампу вздул колдун-старик.
Горизонт блеснул на миг,
как шлея сверканьем бляшек.
Там метель в лохмотьях пляшет,
будто кто граблями машет,
кто-то сеет, кто-то пашет…
Дед глаза потёр, лицо,
к блеску снега привыкая.
«Хоть бы… горочка какая
иль хотя бы деревцо.
Сбоку будто солнце светит.
Ну и ну-у, чего на свете!..»
И запнулся, вдруг приметив:
эти гости из столицы –
ба! знакомые всё лица!
«Дед Никита?!» –
«Сын Данилы!
Ну а этот сын Гаврилы?
Вот так встреча! Так порой,
говорят, гора с горой…
Ну а девушка что – ваша?»
«Наш коллега, звать – Наташа». –
«Ну и ну-у… А вот мой внук,
тож Никитою зовут.
Растрясти немножко кости –
вот приехал к внуку в гости. –
и Никиту церемонно. –
Вот он, наш неугомонный!..»
Что такое с парнем вдруг?
Нет лица, один испуг…
«Это… вы?!» – дохнул Никита.
Образ давний, незабытый:
как тогда – важна, нежна
комсомольская княжна.
Что княжна – сама царевна!
Поднялась, шутливо-гневна,
на подножку – стоя вровень,
удивлённо вскинув брови,
глядя свойски, чуть кокеткой –
помахала всем газеткой,
тоном – будто детвора:
«Это я. Но в путь пора!»
От войны знакомо – «хальт» –
стой!
Начался тут асфальт.
«Отцепи!» – сигналит газик.
На асфальт хозяйски влазит,
вжик! – дымком обволокся…
Трактор обочь затрясся.
Дружба, что крепчей базальта,
продолжалась… до асфальта.
«Что ж, на то мостится гать,
кто-то ползать, кто – летать…»
Так Никита невесёлый
въехал с думами в посёлок.
Был директор в кабинете.
Чутко так Никиту встретил:
«Что нерадостен твой вид?
Деда и гостей столичных,
раз ты знаешь их отлично,
познакомь со всем как гид.
Да не будь бурёнкой дойной –
представляй им всё достойно!»
28
От сосулек вянут крыши,
уж зима на ладан дышит.
Полевые к севу станы
все в заботе неустанной.
Взор свой как бы раздвоив,
чужаком взглянул Никита
на творенье рук своих:
что с таким трудом добыто,
потом, горечью омыто,
всю во что вложили душу,
что нещадно жжёт и сушит
(всё учти, всё подытожь!).
Но…
Как глазам чужим ничтожно –
плод трудов твоих упорных:
в ряд домов десяток сборных,
в стороне – саманных ряд
(индпошив, как говорят).
Станы, склады, мастерские,
школа, клуб свой, магазин.
Не Москва, да и не Киев.
Но зато они такие –
в паруса им баргузин!
А в полях? Не счесть борозд.
Как на ясном небе звёзд.
Как полос в отрезе ситца.
Есть Никите чем гордиться?
«…Агрокомплексность хозяйства,
окупаемость затрат…»
И – ни капельки зазнайства.
Молодцы. Куда – наш брат!..
Им в карман не лезь за словом:
цепко, знающе, толково
просмотрели планы, сводки.
Походить? А нет охотки –
ясно всё. Они правы.
В горле как пучок травы:
как для них всё это просто!
Обросли внутри коростой –
а романтика души?
«…Ты в колдун свой запиши, –
встал Никита злой до дрожи. –
Будет здесь – не скоро, может,
стал народ чего-то хлипок –
будет парк тенистых липок.
В жар – студёная вода.
Живность, тучные стада.
Здесь в садах утонут хаты.
Будут люди все богаты…»
Тут «княжна», зевнув устало,
улыбнулась: «Славный малый!»
Не обиделся Никита,
только крепче спора злость
(«Всё скажу, и будем квиты,
раз поспорить довелось!»):
«Станет жизнь богаче, краше, –
и решив их ошарашить. –
Дети жить тут будут ваши!
Если вы их в нашей вере…
То, что есть, – то в завтра двери!»
Как чудесен взгляд Наташи
в снисходительной улыбке.
Словно мать у детской зыбки.
Чуть обиделись, унылы
сын Гаврилы, сын Данилы.
29
Дело делом, дружба дружбой,
но и чти страны законы:
с целиной парней знакомых
провожать пора на службу.
Ну, раз надо – значит, надо!
И какой тут разговор.
Почесть Родины – награда,
это ясно с давних пор.
Шум зелёный, бред весенний –
с плеч долой следы забот:
эх вы, сени мои, сени!..
Как на праздник все.
И вот…
Клуб битком, прощальный вечер
новгородским шумным вече.
Говорились долго речи,
а потом… взвилась Весна!
Захлестнула, понесла.
Жёг баян, и данью музе
хрипло гнал пластинки «узел».
Пол скрипел (рассохся, новый).
Жар девчат горел обновой.
Ух, девчата, «дуже гарни», –
выбирайте, что ж вы, парни!
И сквозь пыл всей суматохи
вдруг иной волны сполохи
зазвучали. Тишина.
За роялем… да, о н а,
комсомольская княжна.
Долго ждал рояль артистов.
Нежен звук – и вдруг неистов.
Страсти жар, томленье неги –
кто-то Ленский, кто – Онегин.
И любовь, и вольный ветер –
кто-то ждёт, а кто-то встретил.
Плеск волны, и зов марала…
Как играла… Как играла!
Словно бес в неё вселился.
И поток всё лился, лился…
Степь! Прими, паруй и вдовь
ошалевшую любовь.
Полнолуньем степь залита,
всё забылось, всё забыто.
Чист надежды светлой рок,
веет нежный ветерок.
«Обними меня, Никитка,
мой шатёр, моя кибитка!»
Ждёт целинная девчонка,
что сестры ему родней.
Вызывающе и громко:
«Знаю, думаешь о н е й !»
И поникла вся, пугая.
Сердце заняла другая.
«Ну, служить вам верно, честно!
Трогай, с богом. В добрый путь!»
Провожание, известно –
то да это не забудь.
(Трубность! Звание поры той,
далека ты, тяжесть плит…)
Новобранцы – на «открытой»
(дед в директорской пылит).
Жжёт внутри разноголосье –
до свиданья иль прощай?
Шорох чудится колосьев,
тех, осенних: навещай!
Лент-борозд спираль витая
круто лезет на отвал…
Зримо память всё вплетает,
чтоб вовек не забывал!
Целина! Судьбы подружка…
(Под рубашкой что-то трёт –
чёртик! Дедова игрушка.
Хм, к счастью… Задом наперёд?..)
Где и в чём ты, птица-счастье?
Жизнь в великом соучастье,
смерть ли разом, в одночасье –
кто поймёт, кто разберёт?
Как дорога под колёса,
всё – мельканье, всё – летит.
И ненастьями исхлёстан
человек всегда в пути.
Дух степной, дух знойнотравья!
Чутка трепетность ноздрей.
Грудь, полней вбирай во здравье,
человек, шагай бодрей!
Вдруг…
пахнул волной сторожкой
дух гниенья, затхлый дух.
Песни стихли молодух.
Морща нос, к глазам ладошку –
рассмотреть хоть что во мгле б –
дед спросил: «Гниёт картошка?»
Помолчал директор. «Хлеб…»
Дед не понял… «Подъезжаем.
Вон и станция. Весна-а!
Как-то нынче с урожаем?..»
Трёт глаза дед, как со сна:
что такое? Хлеба… горы!
Хлеб в буртах парил и мок.
Тормошит плечо шофёра:
«Подожди-ка, стой, сынок!»
Вылез торопко – и к кучам.
На колени… Взгляд измучен,
руки судорожно-крепко…
Остальным дал знак директор –
не сбавляйте, мол, машин ход,
мол, догоним – проезжай.
Тихо, вежливо, корректно:
«Элеватор завершим вот…»
Дед с тоскою: «Урожа-ай!..»
Весь угас, с понурым видом
в стороне стоит старик.
Горечь, личная обида,
ком внутри, себя корит.
А в глазах застыла мука.
Тих, виновен голос внука:
«Ты прости нас всё же, деда.
Каждый сделал всё, что мог.
Так важна была победа…»
(Отпустил, исчез комок.)
«…Прорастёт земля домами,
степь уставят закромами,
чтоб вольготно людям жилось…»
Сколько ж люду тут прижилось!
Видеть деду это странно.
Вот лезгина речь гортанна.
Вот бочком снуют татары.
Прибалтийцы… (Как гитары?)
Немцы тихие, с Поволжья…
Да, на то всё воля божья –