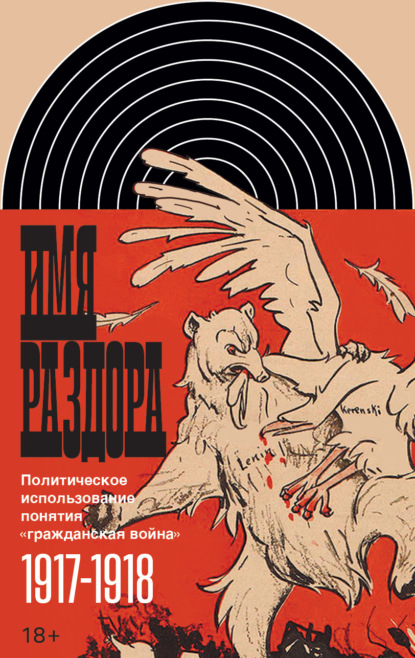Полная версия
Чаадаевское дело. Идеология, риторика и государственная власть в николаевской России
Казалось бы, как считал Чаадаев, картина безотрадная. Однако мысль Ястребцова развивалась в противоположном направлении. Фиксация разрыва между Россией и Европой («Россия составляла как бы особенный мир в Европе»[153]) подводила его к следующему тезису: «Европа не чувствует великого северного государства своим. Ее писатели истории рода человеческого даже забывали вовсе о его существовании, полагав, что человечество находится собственно в Европе»[154]. Между тем Провидение избрало именно Россию[155], а коли так, то ей суждено образовать свою независимую цивилизацию. Европейскую цивилизацию Ястребцов называл скандинавской и утверждал, что не менее влиятельными являлись цивилизации иберийская, связанная с Африкой, и русская, соединявшая Европу с Азией. Отсюда формулировалась идея России: «Полагаем, что идея нашего отечества состоит в таком превращении скандинавской цивилизации, какое необходимо для мира азиятского, и что идея Испании имеет подобное назначение для мира африканского»[156]. Автор постулировал множественность путей, которые Провидение проложило к коллективному спасению, и несводимость их к единому цивилизационному паттерну. Этот тезис обессмысливал чаадаевское утверждение об отсталости России[157].
Ястребцов выделял четыре периода русской истории: а) «Преимущественно азиятские стихии составят основание народа»; б) «Откроется широкий вход стихиям европейским»; в) «Стихии азиятские и европейские переработаются в оригинальную, Русскую цивилизацию»; г) «Цивилизация Русская сообщится, приготовленной для этого, Азии»[158]. Ориентированная на Восток хронология отечественной истории дала возможность заявить о преимуществах молодой русской нации, быстро перенимающей западные достижения[159]. В этом месте рассуждения Ястребцов вновь виртуозно препарировал целую серию «сильных» чаадаевских утверждений:
Прошедшая жизнь народа имеет, не оспоримо, великое влияние на настоящую и будущую жизнь оного. Влияние сие заключается особенно в преданиях, т. е. в отголосках и памятниках тех великих происшествий, страстей, чувствований и мнений, которые сильно действовали на умы предков. Сии отголоски и памятники прошедшего делаются в душе народа истинными предубеждениями… Они налагают на все предприятия, на все поступки печать свою. Народ, заключенный в сфере их, не может освободиться от их влияния даже и тогда, когда чувствует вредность этого влияния, и хотел бы избегнуть оного. ‹…› Сие предубеждения входят, так сказать, в кровь, пускают корни во все существо человека. Таким образом до сих пор, как думает одна особа, (*: П. Я. Ч.) которой мы обязаны основными мыслями, теперь излагаемыми, не погибла еще в европейском мире власть языческих преданий. ‹…› Россия свободна от предубеждений; живых преданий для нее почти нет, а мертвые предания бессильны. Россию потому и называем юною, что прошедшее как бы не существует для нее[160].
В устах Чаадаева (в первом «Философическом письме») идентичные высказывания звучали убийственно: он предрекал России исторический тупик. Ястребцов, напротив, рассматривал перечисленные свойства как залог грядущего цивилизационного триумфа, в чем полностью сходился с Уваровым[161].
Наконец, едва ли не самое важное – ни в одном фрагменте своего труда педагог не утверждал, что православие служило источником исторических бед России, а католицизм, напротив, был бы способен ее спасти[162]. И, разумеется, Ястребцов не противопоставлял русского царя русскому народу. Чаадаев заблуждался, ссылаясь на «О системе наук…» как на доказательство благонамеренности собственных писаний. Проблема заключалась не в формальном наличии или отсутствии в тексте Ястребцова тех или иных высказываний, а в их рамочной интерпретации[163], которая в случае «О системе наук…» и первого «Философического письма» оказывалась диаметрально противоположной. В то же время содержательное и языковое упражнение, выполненное Ястребцовым, позволяет заметить любопытную особенность чаадаевского стиля: неожиданно выясняется, что французские формулировки салонного философа в переводе Ястребцова прекрасно сочетались с дискурсом имперского национализма.
IIIПроверка гипотезы о соответствии риторики первого «Философического письма» языку уваровской идеологии требует дополнительного обоснования на материале текста, опубликованного в «Телескопе». Многие современники, в их числе А. С. Хомяков и Е. А. Баратынский, по прочтении перевода чаадаевского сочинения бросились писать его опровержение, однако вскоре оставили это занятие из-за цензурного запрета на печатное обсуждение статьи. Единственным человеком, которому удалось обойти ограничения, оказался молодой, но уже успешный журналист и чиновник А. А. Краевский, поместивший в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» свое программное сочинение «Мысли о России»[164], направленное против Чаадаева. Имя опального автора в работе, конечно, не упоминалось, но, как мы покажем, текст Краевского был устроен таким образом, что, без сомнения, прочитывался как полемический жест, призванный развенчать чаадаевскую концепцию истории России[165]. Первая версия статьи, возможно, сложилась еще до осени 1836 г.: на это, в частности, указывают совпадения между отдельными положениями «Мыслей о России» и письмом Краевского к Э. П. Мещерскому от 24 ноября (6 декабря) 1834 г.[166] Впрочем, обилие цитат из русского перевода первого «Философического письма» в тексте свидетельствует, что его окончательная редакция была закончена после 3 октября 1836 г., когда 15-й номер «Телескопа» стал продаваться в московских книжных лавках[167].
Краевский добился расположения петербургских оппонентов: с одной стороны, будущий издатель «Отечественных записок» состоял на хорошем счету в Министерстве народного просвещения и активно сотрудничал в его ведомственном журнале, с другой – пользовался покровительством чиновников III Отделения. В результате Краевский не только не был наказан за нарушение цензурного запрета, но и заслужил всеобщую похвалу. По свидетельству автора, его «Мысли о России» читал в рукописи и одобрил к публикации начальник штаба корпуса жандармов Л. В. Дубельт[168]. Уже после выхода материала служивший в III Отделении В. А. Владиславлев писал А. Я. Стороженко: «Ваш лестный отзыв о статье Краевского порадовал его благородную, теплую душу; в этом случае и Петербург отдал ему должную справедливость»[169].
Прием Краевского сводился, с одной стороны, к развенчанию, а с другой – к ироническому обыгрыванию основных аргументов Чаадаева. Желание вести дискуссию именно таким образом привело автора «Мыслей о России» к необходимости часто цитировать первое «Философическое письмо», и, сразу скажем, сделал он это крайне искусно. Краевский инкорпорировал наиболее эффектные формулировки русского перевода чаадаевской статьи в свое повествование для того, чтобы немедленно их оспорить. Примеры подобной нарративной стратегии многочисленны. Уже в самом начале «Мыслей о России» Краевский констатировал, что в современной ему России с небывалой прежде интенсивностью обсуждается русская народность. Далее он спрашивал себя и своих читателей о причинах подобного внимания:
Имело ли это источником безотчетное последование тем немногим избранным, коим первым суждено было постигнуть высокую мысль Русской народности; или было следствием недавних событий Европы, которые доселе еще колеблют ее своим бурным дыханием и которые для чистого, мирного, благонравного сердца Русского имеют в себе что-то отталкивающее; или наконец это есть отрадная заря ближайшего знакомства с самим собою, к которому приготовили нас и мудрые распоряжения правительства и произведения самородных Русских талантов, и великолепный памятник отечественной истории, воздвигнутый гением Карамзина, обративший нас к изучению темной старины нашей, а литературе Русской давший решительно народное направление…[170]
Первая половина рассуждения строилась на сознательной отсылке к чаадаевским высказываниям: именно из первого «Философического письма» появляются в тексте Краевского «немногие избранные» и «бурное» «дыхание» европейской политики.
Обосновав необходимость высказаться на злободневную тему, Краевский продолжил открытую полемику с Чаадаевым. Он привел точку зрения собственных оппонентов, сторонников «европеизма», на соотношение русской национальной идентичности и западной культуры:
Мы не европейцы – говорят нам с горестию поклонники европеизма: мы не принадлежим к тому великому семейству человечества, которое обитает на западе Европы, не имеем его преданий, не разделяли с ним ни бранных, ни мирных его подвигов, не дышали с ним одним воздухом, и потому чужды ему, и потому то, что у западных народов давно уже вошло в жизнь, для нас еще только теория, и пр. и пр…[171]
Приведенный фрагмент представляет собой достаточно точный парафраз отдельных утверждений первого «Философического письма»:
И это оттого, что мы никогда не шли вместе с другими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человечества, ни к Западу, ни к Востоку, не имеем преданий ни того, ни другого[172];
То, что у других народов давно вошло в жизнь, для нас до сих пор есть только умствование, теория[173].
Краевский привел слова Чаадаева, дабы затем полемически истолковать их: расстояние, разделявшее русскую и европейскую историю, есть не недостаток, но огромное преимущество. Автор использовал свойственные официальной риторике обороты – ссылки на «Провидение» и апелляцию к представлениям об исторической исключительности России: «Неисповедимыми путями благое Провидение вело Русский народ к возвышенным целям, вдалеке от тех бурь и треволнений, которые облили Европу кровию и создали нынешнюю ее физиономию, не имеющую себе ничего подобного ни в веках минувших, ни в настоящее время в других частях света»[174]. В совершенно благонамеренной фразе вновь возникал чаадаевский термин – «физиономия» Европы, отсылавший к соответствующему пассажу из первого «Философического письма».
Краевский рассуждал о важности первых веков русской истории для позднейшего государственного строительства – в постоянном диалоге с первым «Философическим письмом». Так, «Германо-Латинская Европа» «привила» «к идеям, принесенным с дикого севера», «богатое наследие образованного и развращенного Рима»[175]. Образ «развращенного Рима» противопоставлялся тезису Чаадаева о «растленной» Византии. Краевский писал о ранней истории Руси: «в безвестном рубеже Европейского мира с Азиатским, на чистом пространстве степей, где ни одно образованное поколение не оставило следов своих, начинался народ совершенно новый, не имевший никаких „поэтических“ воспоминаний, не получивший никакого нравственного или политического наследия, долженствовавший создавать все сам собою: и общественные учреждения, и гражданскую жизнь, и нравы, и государство»[176]. Он вновь полемически ссылался на первое «Философическое письмо». «Поэтические воспоминания», восходящие к Средним векам, по мнению Чаадаева, составляли историческое прошлое, необходимое для формирование современной ему европейской идентичности. Россия ничего подобного не знала, однако именно это обстоятельство, по Краевскому, служило доказательством благополучия ее исторического пути. Автор «Мыслей о России» пересказывал точку зрения оппонента, но затем перетолковывал ее в прямо противоположном смысле.
Восточные славяне, в среде которых развивался русский народ, оказались, по Краевскому, полностью изолированы от Европы, благодаря чему не знали «германской конфедеративности» и римского «понятия о муниципалитете», но сохранили патриархальность нравов. Соединившись с «руссами» (варягами), славяне смогли преобразовать фамильный уклад в управленческую схему: патерналистская модель стала основой русского государственного порядка. Согласно Краевскому, она прежде всего подразумевала «безусловное повиновение» князю. На этот поведенческий паттерн наложилось восприятие византийской религии с несколькими ее «коренными идеями», прежде всего – «живой и кроткой верой». Повиновение предшествовало обращению в христианство: русский народ принял православие скорее из соображений «детского послушания»[177]. В этом месте рассуждения возникала параллель с чаадаевским текстом. Краевский полемически обыгрывал «одиночество Русского народа», которое автор «Философических писем» считал одной из трагических черт его существования:
Неизменная в покорности отеческому самодержавию своих государей, твердая в вере отцов, она отражает всякое покушение Европы ввести между нами несвойственные нам преобразования, укореняется во вражде к западу, и считает его не только для себя чуждым, но и всегда опасным. Это одиночество Русского народа, эта совершенная разобщенность ото всех сопредельных ему стран, проводит резкие черты на все явления его жизни и создает его оригинальную физиономию, которая не имеет себе подобной в летописях мира…[178]
Негативная характеристика у Чаадаева превращалась у Краевского в позитивную черту.
Вторая часть «Мыслей о России» была посвящена уже не отрицательному определению русской идентичности («мы – не европейцы»), но поиску положительной дефиниции («кто мы?»). «Мы Русские»[179], – отвечал Краевский и развивал географическую тему, о которой писал и Чаадаев, усматривавший в громадной протяженности России известного рода парадокс – размеры России были обратно пропорциональны ее роли в мировой истории. Напротив, Краевский, как и Ястребцов, был убежден, что Россия занимает уникальное место среди других стран именно благодаря огромной территории, природным ресурсам и «юному», «свежему» народу, живущему в идеальной политической системе, в которой монарх-отец управляет послушными детьми-подданными. Все эти доводы приводили автора «Мыслей» к констатации неосновательности чаадаевских заключений о России.
Россия богата талантами, и это обстоятельство, по Краевскому, позволяло иначе поставить вопрос о путях развития русской нации и европейских народов. Автор «Мыслей» вновь цитировал Чаадаева, чтобы сначала согласиться с ним, а затем оспорить его точку зрения: «Разумеется, на земле одна истина, одно добро, одна красота; но постепенное приближение духа человеческого к той высоте, на которой предстоят нам эти светозарные идеи, приближение, называемое образованием, разве непременно должно совершаться только одним путем, пробитым европейцами?..»[180] По мнению Краевского, Провидение не предписывало народам единственного пути. Напротив, количество исторических сценариев равнялось числу самих сотворенных Богом наций[181]. Краевский постулировал «уваровский» тезис: человечество стремится к одной и той же цели, но идет к ней разными дорогами. В этой перспективе молодая Россия не просто превосходила Запад, но была способна спасти Европу от ее многовековых пороков.
В итоге Краевский создал образцово благонамеренный текст с правильно расставленными идеологическими акцентами. Суждение о покорности народа монарху не сопровождалось констатацией разрыва между ними, но толковалось с упором на патриархальную природу их отношений. Тем самым иерархия зависимости органично встраивалась в концепцию семейственного единства. Краевский сумел соблюсти языковые законы жанра. Так, он свел в один логический узел конкурировавшие в то время в николаевской идеологии смысловые и понятийные ряды: а) излюбленные выражения Уварова (европейская «буря», русская «спасительная пристань», «семена», способные стать «деревом», и иные органицистские метафоры), б) образы, принципиальные для Бенкендорфа и III Отделения («тишина», «кров отеческой власти» и другие патерналистские аналогии). На очерченном фоне еще более впечатляюще выглядит та легкость, с которой редактор «Литературных прибавлений» включил в свой текст цитаты и аллюзии на первое «Философическое письмо», сделав программную статью актом прямой историософской полемики с запрещенным текстом. Если Ястребцов перетолковывал отдельные положения чаадаевской философии истории, то Краевский спорил с ним. Впрочем, и Ястребцов, и Краевский без труда и обильно пользовались сентенциями Чаадаева. Все трое описывали историю и современность одними и теми же словами[182]. Можно сказать, что при диаметральной противоположности позиций герои этой главы обсуждали политику на одном и том же языке – языке провиденциального монархизма.
IVЯстребцов и Краевский осознанно (но с разными целями) ориентировались на чаадаевский язык и идеи. Однако в истории полемики вокруг первого «Философического письма» есть еще один текст, автор которого не имел намерений спорить с Чаадаевым, – и в этом смысле сопоставление его сочинения с чаадаевской статьей представляется особенно продуктивным. Прочитав материалы 15-го номера «Телескопа», митрополит Московский и Коломенский Филарет (Дроздов) советовал наместнику Троицкой лавры архимандриту Антонию в письме от 6 ноября 1836 г.: «Найдите и прочитайте лист „Северной Пчелы“, вышедший третьего дня. Тут есть хорошее противоядие против статьи Телескопа»[183]. Речь, как установлено[184], шла о материале, озаглавленном «Восток и Запад», принадлежавшем дипломату и публицисту К. М. Базили и помещенном в 253-м номере «Северной пчелы» от 4 ноября 1836 г. Редакторское примечание к тексту свидетельствовало, что отрывок заимствован из «печатаемой ныне книги: Босфор и Новые Очер‹к›и Константинополя»[185], цензурное разрешение на которую было дано 7 октября 1836 г. О соответствии мыслей Базили официальной идеологии сигнализировало полученное автором поощрение в виде бриллиантового перстня, пожалованного Николаем за «Новые очерки Константинополя»[186]. Текст, помещенный в «Северной пчеле», был практически идентичен книжной публикации[187], не считая одиннадцати мелких грамматических разночтений. Как мы сказали, изначально произведение Базили не было связано с первым «Философическим письмом». Впрочем, реакция Филарета позволяет допустить, что появление фрагмента на страницах «Северной пчелы» могло указывать на стремление ее редакторов отозваться на чаадаевскую статью в ситуации цензурного запрета[188].
Базили, по происхождению грек, получивший образование в Российской империи (в Нежинской гимназии, где вместе с ним учились Н. В. Гоголь, Н. В. Кукольник и др.), в 1836 г. служил в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. Он стал известен благодаря сочинениям о Ближнем Востоке: «Архипелаг и Греция в 1830 и 1831 гг.» (1834), «Очерки Константинополя» (1835) и «Босфор и новые очерки Константинополя» (1836), откуда и был заимствован интересующий нас фрагмент «Восток и Запад». В целом «книги Базили отличались от многочисленных других сочинений о Турции в первую очередь богатством фактического материала»[189]. Помимо множества этнографических наблюдений они содержали историософскую программу, совпадавшую в главных пунктах с теорией имперского национализма. Дипломат, профессионально занимавшийся ситуацией в ближневосточном ареале, считал Западную Европу и славянский мир (куда входила и Россия) двумя принципиально разными историко-культурными общностями, дистанция между которыми возникла в том числе из-за принципиальных конфессиональных противоречий.
В отрывке, перепечатанном из книги Базили, исчислялся круг историософских ассоциаций, посетивших путешественника во время пребывания в Стамбуле. Доводы Базили в основном сводились к констатации нравственной дистанции, разделявшей католическую и православную церкви. Рим не мог стать столицей новой христианской империи: во-первых, в силу своего морального «развращения», будучи, по словам Базили, «слишком упитан предрассудками своего язычества», во-вторых, из-за гонений на первых христиан, бывших «три века предметом его поруганий, его зверских забав, преследований и обвинений»[190]. Варварское завоевание и целая серия «порабощений» потребовались Риму, дабы «очиститься от язычества крещением в своей крови». Новой религии, которой предстояло распространиться и за пределы Римской империи, надлежало обрести и новую столицу – Константинополь. Впрочем, «идолопоклонство» продолжало преследовать христианство и на Востоке, материализовавшись в виде «ересей, порожденных софистическим духом древней философии», с которым церковь вела неустанную и успешную борьбу. Вместе с тем «кровопролития и богословские войны» входили, по мнению Базили, в замысел Провидения: таким образом христианство окончательно изживало «поэтические воспоминания язычества»[191].
Базили полемизировал с критиками восточноримской политии, в числе которых в ноябре 1836 г. без труда угадывался следовавший за Монтескье и Гиббоном Чаадаев: «Все западные писатели оклеветали дряхлые века Византийской Империи и очернили ее Императоров»[192]. Базили энергично оспаривал тезис о пагубном воздействии «растленной» Византии на христианизированную Русь. Автор «Босфора» развенчивал миф о великом европейском «средневековье», столь важный для историософской концепции «Философических писем», воспроизводя ряд хорошо известных аргументов[193]. Так, ответственность за ослабление Восточной Римской империи лежала на крестоносцах, разграбивших Константинополь в 1204 г. Запад сначала «под знамением креста проложил дорогу Мусульманским завоевателям», а затем «излил» на Византию «желчь исторической клеветы». Между тем европейские государства спасением от варваров не в последнюю очередь были обязаны именно империи, основанной Константином Великим: с одной стороны, Византия действовала мечом, «тысячу лет без отдыха» боролась «со всеми силами Азии и Африки», с другой, словом – императоры «разливали свет Христианства на все окружавшие их варварские племена, укрепляли Церковь новыми столпами и обращали в мирных поселенцев и в Христиан дикие орды Болгар, Даков, Албанцев, Босняков»[194].
Кроме того, Базили подчеркивал способность восточных монархов создать идеально сбалансированную политико-религиозную систему, «симфонию» гражданских и духовных властей. Запад потерпел фиаско, стремясь распределить полномочия между королевствами и папством. Понтифик постоянно претендовал на доминирование в светской сфере: доказательством тому «кровавые» события XVI–XVII вв. – Варфоломеевская ночь, Тридцатилетняя война, «суеверия» и «безверие» Италии и Франции, фаворитизм кардиналов, колониальные войны, деятельность иезуитов. Благодаря взаимному согласию государства и церкви, регуляции их полномочий внутри империи Греция сумела подготовиться к политическому кризису: в тот момент, когда «царство» в 1453 г. исчезло, духовенству удалось «защитить не только церковные, но и политические права народа»[195].
По мнению Базили, гарантией сохранения идеального миропорядка служила подчеркнутая холодность восточной церкви в отношении папства, именно поэтому он крайне негативно оценивал экуменическую деятельность Ферраро-Флорентийского собора 1439 г. Парадоксальным образом «плен Востока», османское завоевание Византийской империи, оказалось спасительным событием, поскольку для православия было куда важнее дистанцироваться от Рима, «упрочить узы религии», прекратить «богословские распри», научить «Христиан веровать», а не «умствовать о Вере» и «положить конец жизни Древнего мира»[196]. Именно эти качества Базили считал ключевыми в контексте последующего возрождения православного христианства в России. Отечественная история, с точки зрения Базили, была схожа с историей Византии наличием глубокого политического кризиса, который тем не менее привел не к упадку, а к расцвету в религиозной сфере, описанному в категориях «тяжких опытов», «терпения» и спасительной «жертвы». Сохранение духовного единства имело глубокий общественный смысл, именно благодаря ему России удалось не утратить «политическое бытие народа». Именно церковь как институт гарантировала преемственность между двумя фазами государственного развития: в то время как удельные князья «раболепствовали в Магометанской Орде», местное духовенство «внушило к себе уважение самим Татарам»[197].
Неудивительно, что именно текст Базили Филарет счел наиболее эффективным «противоядием» от чаадаевских идей. В первом «Философическом письме» самой скандальной была именно «конфессиональная» часть, т. е. резкое и безапелляционное осуждение восточного происхождения русского православия и противопоставление ему идеализированного католичества. Базили как бы опровергал доводы Чаадаева. «Развращенной» именовалась вовсе не Византия, а сам Рим. Средние века, для Чаадаева – эпоха продуктивного «брожения», «хаоса» и созидания современной идентичности, становились в интерпретации Базили временем разрушения христианской сущности католицизма из-за смешения светских и церковных функций папской власти. Слабость предания в допетровской России оказывалась надуманной, поскольку угасание государственности не сигнализировало о «конце истории», которая творилась не князьями, а духовенством.