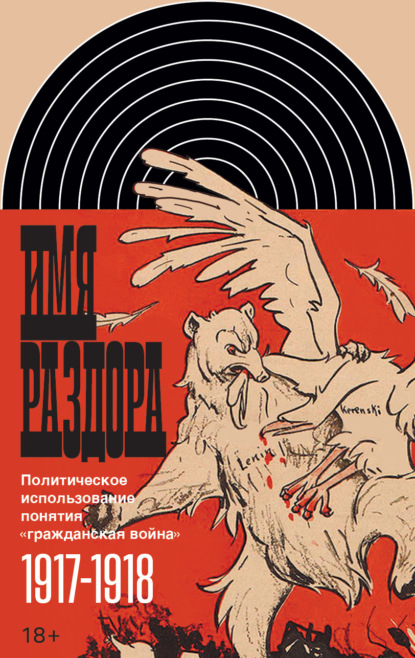Полная версия
Чаадаевское дело. Идеология, риторика и государственная власть в николаевской России
Католики (уже упоминавшиеся выше де Местр, Балланш, Шатобриан, Бональд, Ламенне и др.) гораздо меньше либералов интересовались «свободой»[98]. С их точки зрения, разномыслие разлагало общество и на нем нельзя было построить прочного социального мира, возникавшего лишь при обращении к религиозным истинам. Они являлись убежденными монархистами и разделяли точку зрения, согласно которой человеческая природа и общественные институты происходили и черпали свою легитимность из божественного источника. Сверхъестественный характер абсолютной власти и гарантировал ее неприкосновенность. Религия доминировала над законом, а откровение над разумом, что делало необходимой ориентацию настоящего на образцы политического поведения в дореволюционном прошлом. Социальное обновление мыслилось католиками преимущественно под эгидой церкви или опиравшегося на папскую власть государства. Политический язык этого направления ориентировался уже не на светскую (как у либералов), а на религиозно-философскую лексику, адаптированную для описания ключевых проблем современности.
Наконец утопические социалисты, сен-симонисты и позитивисты (О. Конт и другие) отказались от идеи католического возрождения, поскольку христианство, с их точки зрения, не соответствовало новому уровню человеческих знаний[99]. На место религии следовало поставить естественные науки как базовую модель описания социума. Принципы позитивистской философии переносились на политику, которую надлежало строить на строго рациональных основаниях. После 1814 г. А. Сен-Симон отстаивал тезис, согласно которому промышленность и торговля служили силами, способными объединить нации и принести в Европу мир. По его мнению, общество следовало переплавить согласно ключевым целям экономической политики. Постепенно идеал экспериментальной науки сменился предпочтением науки априорной, что резко сблизило учение Сен-Симона с религией и профетическим дискурсом: общественные функции ученого и жреца становились неразличимыми. В итоге Сен-Симон отказался от идеи свободы в новом научном мире и провозглашал абсолютные истины в рамках «нового христианства».
Французские политические философы в разные периоды своей деятельности разрабатывали отдельные аспекты трех концепций, нередко сочетая их между собой. В особенности смешение доктрин характерно для эпохи Июльской монархии, когда прежняя политическая реальность с ее принципами ушла в прошлое. В первой четверти XIX в. Балланш исповедовал консервативные взгляды, близкие к доктрине де Местра. Однако в 1830 г. он принял революцию, так как увидел в ней новый этап реализации христианских принципов в истории. Он придерживался убеждения, что только устранение неравенства являлось по-настоящему священной целью, и, как следствие, не отрицал позитивную роль социального прогресса. Балланш стремился совместить католическую догму с современным ему светским движением за права человека, поэтому его позднюю позицию Бенишу определял как «christianisme plebianiste» («народное христианство»), уже не предполагавшее доминирующей роли церкви[100]. Шатобриан, будучи монархистом, не отрицал значимости либеральной свободы, однако не считал, что она противоречит религии. Его точку зрения Бенишу назвал «либеральным католицизмом», подразумевавшим теологию прогресса, основанную на совместных действиях католической церкви и модерного государства[101].
Радикальную трансформацию претерпели взгляды Ламенне. Изначально, будучи единомышленником Бональда и де Местра, он разделял идею возвращения к Старому порядку под покровительством церкви. В 1820-х гг. Ламенне разочаровался во французской политике, поскольку «реставрация» оказала, по его мнению, самое незначительное влияние на жизнь нации и подлинного возвращения к прошлому не произошло. Он защищал авторитет папы и нападал на внутреннюю политику последних Бурбонов. После 1830 г. отношения Ламенне с Римом начали портиться: понтифик осуждал философа за политический радикализм и бескомпромиссность. Ламенне перешел на позиции неортодоксального социального христианства, критиковал деспотизм и неравенство, выступал апологетом свобод и публичной дискуссии, принял идею прогресса, а также предпринимал попытки совместить христианство и науку. Как следствие, в 1832 г. Григорий XVI официально осудил его доктрину, а Ламенне в ответ пересмотрел свое отношение к авторитету папы в светских политических вопросах[102]. Кроме того, в 1830-х гг., уже после смерти Сен-Симона, многие его сторонники постепенно начали отказываться от научной утопии и перешли к идее исторического провиденциализма в духе Балланша[103]. Изобретатель понятия «социализм» П. Леру, изначально бывший сен-симонистом, позже отверг идею научно-религиозной догмы и предпочел ей либеральную свободу дискуссий. Как отмечал Бенишу, количество идеологических компромиссов в эпоху Реставрации оказалось достаточно велико[104].
Если мы посмотрим, как «Философические письма» Чаадаева вписывались в многогранную картину истории французской политико-философской мысли в 1830-х гг., то можем сделать два наблюдения. Политический язык чаадаевских сочинений в наибольшей степени соотносился с лексиконом и политической концепцией католиков (с фрагментарными имплантациями из немецкой идеалистической мысли, что само по себе также не было новацией). Важно, однако, другое: во Франции католическая идеология выступала в функции одной из легальных политических доктрин и конкурировала с программами других общественных движений. Этот тезис будет особенно значим при сопоставлении французского контекста «Философических писем» с русским. Кроме того, как мы уже отмечали, чаадаевские тексты не просто восходили к образцам католической мысли, но к определенному периоду ее развития – к сочинениям, созданным в первой четверти XIX в. Попытки католиков в 1830-х гг. усвоить прогрессистские принципы и принять отдельные либеральные ценности никак не отразились на воззрениях Чаадаева. На фоне новых альянсов философов-традиционалистов с представителями других политических течений парадоксы Чаадаева окончательно утрачивали свою актуальность. «Les lettres philosophiques» не только повторяли заезженные формулировки, кочевавшие по произведениям де Местра и его союзников, но и могли выглядеть в глазах потенциальных читателей запоздалой и потому лишенной смысла репликой в контексте общественных дискуссий, последовавших за Июльской революцией.
VВ российском политическом дискурсе идеология религиозного консерватизма, о котором мы писали выше в связи с теориями французских католиков, к 1830-м гг. обладала исключительным влиянием. Программа, обосновывавшая неразрывную связь политики с Промыслом, сложилась в течение XVIII в. как основной аргумент, с помощью которого российские императоры легитимировали себя в глазах подданных. Христианский (в случае России – православный) монархизм сводил воедино ряд политических принципов: «божественное происхождение власти», «признание вмешательства Провидения в ход событий», «гражданский культ монарха»[105]. Он опирался на хорошо и давно разработанную в Европе интерпретацию политического господства: на «утверждение о том, что источником всей власти непосредственно является Бог» и «сакрализацию монарха вплоть до уподобления демиургу»[106].
Религиозная концепция власти разрабатывалась в самых разных по жанру и целям текстах – панегириках (одах, проповедях и др.), законодательных актах и политических трактатах и прежде всего циркулировала в придворной среде. Политическое богословие XVIII в. активно использовало библейскую образность и часто прибегало к метафорам (в частности, органицистским и патерналистским) как наиболее эффективному инструменту перевода сложных интеллектуальных конструкций на доступный пониманию подданных язык[107]. Особую роль в этом процессе сыграла возникшая в XVIII в. придворная поэзия, в том числе духовная лирика[108]. С течением времени развитие институтов публичности (пресса, театр, двор) расширило как зоны влияния провиденциального монархизма, так и его идиоматический репертуар: к эпохе Николая I культ императора как Божьего помазанника интенсивно транслировался всем слоям российского общества.
В царствование Екатерины II политический провиденциализм обогатился еще одним важным элементом – культом отечественного[109]. Однако еще в большей степени связь самодержавия и зарождавшейся теории народности (сам термин возникнет к концу 1810-х гг.) актуализировалась в первую половину александровского правления[110]. Под влиянием Ж.-Ж. Руссо и немецких теоретиков национализма многие представители образованной элиты начали разрабатывать концепцию русской уникальности. С одной стороны, А. С. Шишков и его сторонники (С. А. Ширинский-Шихматов, С. Н. Глинка и др.), с другой, Н. М. Карамзин в записке «О древней и новой России» и позже в «Истории государства Российского» сформулировали базовые пункты новой доктрины исторического и политического избранничества империи, подразумевавшей сакрализацию и взаимосвязь народа, царя и самодержавной формы правления. Война 1812 г. и европейский поход русской армии дали мощный импульс к развитию идеи мессианского призвания России, способной спасти от Наполеона не только себя саму, но и Европу[111].
После войны 1812 г. инициатива в разработке консервативной доктрины перешла от общества к государству[112]. Во второй половине александровского царствования монархический провиденциализм обогатился двумя новыми сюжетами. Увлечение императора сначала либеральными идеями, а затем пиетистским мистицизмом апокалиптического толка привело к тому, что в этот период в российском публичном дискурсе появилось невиданное прежде разнообразие[113]. С одной стороны, активизировалась межконфессиональная полемика (о ней мы уже писали в первой главе), с другой, как в официальной прессе, так и в не предназначенных для печати политических трактатах и записках участников тайных обществ стали обсуждаться проекты обновления политической системы России за счет обращения к опыту представительного правления – прежде всего монархического, но также и республиканского[114].
Конец процессам политико-языковой дифференциации положили события 14 декабря 1825 г. Оказавшись на троне, Николай I разорвал связь с идеологией предыдущего царствования: обожая старшего брата, новый монарх тем не менее предпочел отмежеваться от его политических принципов. Прежде всего, Николай прочно связал либерализм с революционностью и планами цареубийства[115], из-за чего вхождение либеральной и республиканской идиом в русский политический язык оказалось отложено на 30 лет. Далее, новый император апроприировал националистическую повестку, прежде активно разрабатывавшуюся декабристами[116]. Отныне единственным референтом народности и ее живым воплощением служил царь, выступавший посредником между Богом и Россией. Проблема выбора новой риторики возникла уже в самом начале нового правления. Так, в манифесте по случаю окончания следствия над декабристами «были соединены три идеи, которым предстояло стать ключевыми в национальной идеологии николаевского царствования: идея жертвы жизнью за царя… образ спасительной Десницы Всевышнего… и формула „за Веру, Царя и Отечество“»[117].
В документах, в которых царь обращался ко всем своим подданным сразу – о суде над декабристами, о коронации, о холере, – Николай последовательно придерживался определенной лингвистической стратегии. Он отказался от чувствительной «карамзинской» идиомы из-за ее связи с политикой Александровской эпохи. Язык военного смотра также не вполне соответствовал замыслам Николая. Милитаристская логика подразумевала жесткую систему наказаний за провинности, исключавшую милость, важнейший инструмент, позволявший монарху легально обходить закон и тем самым утверждать самодержавный принцип власти[118]. В качестве средства общения с подданными император предпочитал риторику церковной проповеди, которая в этот исторический момент архаизировалась – по воле митрополита Филарета (Дроздова), старавшегося отделить ее от профанного светского языка, тем самым придав ей более сакральный смысл[119]. Сам Филарет и стал автором большинства значимых манифестов эпохи Николая и начала правления Александра II. Филаретовский стиль импонировал Николаю прежде всего своей непрозрачностью. Представители разных социальных страт с трудом понимали содержание документов из-за специфического сочетания церковной и светской лексики. Однако недостаток ясности служил определенной цели: он подсказывал подданным, что им не следует особенно вникать в механику политических решений, за них думал царь. Религиозный язык Филарета позволял императору решить сразу несколько важных для него задач: поощрить использование патерналистского лексикона, уподоблений государства семье, самодержца – отцу, а подданных – детям; сделать монарха частью народа, не ставя под сомнение его авторитет; устранить на риторическом уровне существовавшее социальное неравенство между жителями империи, в равной степени подчиненными воле Творца и помазанника Божия; стимулировать в подданных покорность и гражданскую пассивность[120].
В начале 1830-х гг. политические планы Николая несколько изменились. Попытки реформировать отдельные секторы государственного управления (например, систему крепостной зависимости[121]) отныне стали сопровождаться институциональным строительством в сфере идеологии. Европейские революции и восстание в Польше убедили монарха в необходимости дополнительно укрепить собственную власть. Именно с этой целью в 1832 г. в ведомство народного просвещения был приглашен С. С. Уваров, вскоре ставший министром. Уваров ответил на запрос Николая и предложил идеальную формулу политического порядка – православие, самодержавие и народность, где все элементы триады взаимно подкрепляли друг друга[122]. В 1833 г. в России возникла официальная национальная идеология, опиравшаяся на опыт европейского провиденциального консерватизма первой трети XIX в.[123] Кроме того, в распоряжении Уварова оказался инструмент цензуры, позволявший с помощью ограничительных мер регулировать обсуждение общественных вопросов.
В итоге, если во Франции католическая идиома, которой пользовался Чаадаев, служила языком политической дискуссии, не обладавшим статусом ни официального, ни доминирующего, то в России религиозно-консервативная концепция власти оказалась в иной политико-лингвистической ситуации: провиденциальный монархизм служил не одним из способов говорить о политике, но единственно легитимным. Во Франции первое «Философическое письмо» и в языковом, и в содержательном плане выглядело банальным набором общих мест, к тому же малоактуальных с точки зрения современной политики. В России же акценты, расставленные в статье Чаадаева, отличались новизной: ничего подобного по резкости в печати прежде не появлялось. Тождество позиции Чаадаева с христианским консерватизмом деместровского толка привело к незапрограммированному эффекту: Чаадаев критиковал уваровскую триаду, оспаривал значимость православия и народности, а также предлагал оригинальную интерпретацию самодержавия, опираясь на консервативную систему ценностей, которую во многом разделял сам министр. Так далеко обсуждение основ автократии простираться не могло: как следствие, «Телескоп» был закрыт, Надеждин сослан в Усть-Сысольск, а Чаадаев объявлен умалишенным.
Глава 3
Первое «Философическое письмо» и язык официального национализма
IОпубликованное в 1836 г. по-русски, первое «Философическое письмо» быстро стало знаменитым. Первоначальная репутация текста была связана не только с резкостью чаадаевских формулировок, но и со специфическим лингвополитическим контекстом высказывания: Чаадаев и Надеждин вступили в дискуссию с властью на ее собственном языке (вопрос о преднамеренности подобного политического хода мы пока оставляем в стороне). Однако насколько органично перевод первого «Философического письма» вписывался в официальную риторику русского провиденциального монархизма? Какой стратегии держался переводчик и/или редактор опубликованного в «Телескопе» скандального материала? Сопоставление двух версий чаадаевского письма следует начать с оговорки: неизвестно, с какой рукописи был сделан перевод, напечатанный в 1836 г. Доступные нам сегодня оригинальные тексты восходят к двум источникам: а) ныне утраченным манускриптам, по которым И. С. Гагарин опубликовал четыре «Философических письма» в 1860 г. и Гершензон – в 1913-м; б) текстам, изъятым у Чаадаева во время следствия в ноябре 1836 г., отложившимся в архиве П. Я. Дашкова (РО ИРЛИ) и напечатанным в XX в. Д. И. Шаховским и Ф. Руло. Разночтения между двумя вариантами касаются преимущественно пунктуации, структуры абзацев, использования курсива (подчеркиваний) и примечаний. Для языкового сравнения отличия двух публикаций не так существенны; мы будем использовать текст б.
Анализ понятий, наиболее часто встречающихся в оригинальной и переводной версиях первого «Философического письма», свидетельствует о высокой точности перевода. Ключевые концепты фигурируют в обоих вариантах почти одинаковое число раз[124]. Однако при более пристальном взгляде на тексты выясняется, что сходство не простирается далее уровня отдельных слов. В переводе первого «Философического письма» обнаруживается ряд синтаксических конструкций, которые не находят соответствия в оригинале: не совпадает деление текстов на абзацы, предложения в русской версии короче (т. е. переводчик систематически преобразовывал одно французское предложение в два русских). Как следствие, перевод нельзя назвать точным – особенно это видно при его сравнении с подготовленной к печати русскоязычной версией третьего «Философического письма», в которой отступлений от подлинника гораздо меньше.
Примеров разночтений достаточно. Во-первых, мы насчитали 116 (!) стилистических исправлений, не несущих особой семантической нагрузки. Еще на стадии подготовки текста к печати несколько фрагментов были исключены, вероятнее всего, Надеждиным. Из перевода исчезли: а) финальные фразы первого «Философического письма»[125], которые не относились к сути дела; б) несколько коротких предложений[126]. Изъятие этих отрывков, кажется, не сильно исказило общий смысл чаадаевской концепции. Во-вторых, и это намного более существенно, в тексте были произведены содержательные замены. Прежде всего, неизвестный переводчик и/или редактор купировал определения, которые указывали на Россию, например «chez nous» («у нас») или «ici» («здесь»). Далее он попытался смягчить наиболее резкие утверждения, заменив их нейтральными аналогами или удалив вовсе. Из первого «Философического письма» оказались исключены следующие сюжеты: а) рабство, как крепостное, так и интеллектуальное[127]; б) ряд критических суждений о православии[128]; в) революция, как геологическая, так и политическая[129]; г) свобода[130]; д) несколько скептических отзывов о русской исторической судьбе[131]; е) комментарии, связанные с противопоставлением интеллектуальной элиты массам[132]. Наконец, в тексте осталась фраза об Александре I и декабристах: «…другой великий государь приобщил нас своему великому посланию, проведши победителями с одного края Европы на другой; мы прошли просвещеннейшие страны света, и что же принесли мы домой? Одни дурные понятия, гибельные заблуждения, которые отодвинули нас назад еще на полстолетия»[133]. В оригинале финал фрагмента звучал иначе: «…dont une immense calamité… fut le résultat» («[заблуждения], последствием которых была огромная катастрофа»). Эту часть предложения переводчик и/или редактор предпочел опустить, тем самым нарушив логическую связность повествования. Так, автор статьи против Чаадаева, сохранившейся в архиве М. Н. Загоскина, прочитав 15-й номер «Телескопа», не понял отсылки и интерпретировал этот отрывок как явную бессмыслицу: «Вы взяли Париж и тем отодвинулись на 50 лет от просвещения»[134]. Переводчик и/или редактор старался передать стиль Чаадаева с помощью легкой архаизации слога, используя церковнославянскую лексику, тем самым как бы возвышая не вполне благонадежное содержание письма[135]. Кроме того, в русском тексте появились отдельные, отсутствовавшие в оригинале слова, характерные для официального дискурса и маркированные положительными коннотациями, например «самобытный»[136].
В результате сокращений и замен градус радикальности чаадаевского текста несколько снизился, хотя он по-прежнему звучал критически в отношении базовых пунктов уваровской идеологии[137]. В какой-то степени сочинение утратило стилистическое изящество, поскольку ряд резких и выверенных формулировок оказался исключен (впрочем, это не помещало Пушкину написать Чаадаеву, что он «доволен переводом: в нем сохранена энергия и непринужденность подлинника»[138]). Тем не менее в содержательном смысле основной контур чаадаевской мысли изменения все же не затронули. Перевод несколько ухудшил качество текста, но, безусловно, не до такой степени, чтобы дистанцию между разноязычными версиями статьи считать непреодолимой. Впрочем, при всех оговорках важно следующее: по всей видимости, переводчик и/или редактор пытались сделать первое «Философическое письмо» более благонамеренным.
IIВ первых числах ноября 1836 г., уже после начала разбирательства, Чаадаев, стремясь оправдать себя в глазах московского и петербургского начальства, настойчиво указывал на одно сочинение, написанное под его влиянием и заслужившее одобрение правительства. Речь шла о работе педагога И. М. Ястребцова «О системе наук, приличных в наше время детям, назначаемым к образованнейшему классу общества»[139]. Она вышла в 1833 г. и удостоилась половинной Демидовской премии, распорядителем которой был Уваров, что означало признание заслуг автора на самом высоком уровне. В книге Ястребцов прямо указывал на источник своих воззрений на роль России в мире – беседы с неким «П. Я. Ч.»[140]. Трактат «О системе наук…» мог сыграть важную (если не роковую) роль в чаадаевской истории 1836 г.: его успех был способен внушить Чаадаеву и Надеждину ложное представление об идеологической уместности их историософской программы[141].
В сочинении Ястребцова мы находим не только прямую ссылку на беседы с Чаадаевым, но и целый ряд высказываний, отчетливо корреспондировавших с его ключевыми идеями. Подобно автору «Философических писем», Ястребцов писал об элитистском устройстве публичной сферы, в которой избранные личности ведут за собой толпу[142]. Он неоднократно упоминал об отставании России от Европы в просвещении и цивилизации, несмотря на усилия «мудрого правительства»[143]. Ястребцов настаивал на необходимости разумного заимствования у Запада, прежде всего в интеллектуальной сфере[144]. Вослед Чаадаеву и Надеждину он осуждал «ложную» национальную «гордость»[145]. Автор «О системе наук…» напоминал о необходимости подчиниться закону исторической необходимости[146] и писал о требовании вернуться к религии как нравственной основе идеального мира будущего[147]. На первый взгляд действительно кажется, что историософская концепция, изложенная в «О системе наук…» и заслужившая похвалы министра народного просвещения, отчасти легитимировала и политический ход Чаадаева и Надеждина.
Впрочем, в книге Ястребцова акценты были расставлены иначе, чем в первом «Философическом письме». Прежде всего, педагог подчеркивал мысль, легшую в основу всей деятельности Уварова-министра: образование и воспитание должны быть организованы сословно, причем представителям каждой социальной страты необходимо получать только те знания, которые соответствуют предписанному ей кругу занятий[148]. Кроме того, Ястребцов формулировал позитивную идею народности: «Что есть отечество? Оно не есть земля только, на которой человек живет; оно есть идея, развивающаяся в религии, в государственном телоустройстве, законах, искусствах, языке, науках, нравах того народа, к которому человек принадлежит…»[149] Вслед за Гердером и другими немецкими философами автор замечал, что отечества подобны живым организмам и способны даже умереть[150]. Поскольку «только идея оживляет отечество; только она даст ему прочное могущество»[151], собственную задачу автор видел в выяснении вопроса, в чем состояла идея России.
И здесь Ястребцов излучал необыкновенный оптимизм, предрекая рождение особой русской цивилизации. Излагая свою положительную программу, он ловко работал с чаадаевскими понятиями и высказываниями, согласовывая их с воззрениями Уварова. Педагог воспроизвел ряд утверждений из первого «Философического письма» (которое он читал по-французски), однако придал им радикально другой смысл:
Россия не участвовала ни в одном из тех великих движений умов, которые приготовили нынешнюю Европу. Не было для нее ни крестовых походов, ни феодализма, ни влияния классицизма, ни реформации, поколебавшей умы и сердца в глубочайших их основаниях. Без преданий, без памятников минувшего, она как будто родилась только вчера, и опоздала войти в свет европейский. В Европейском свете развились такие стихии, которые и не вошли еще в состав России[152].