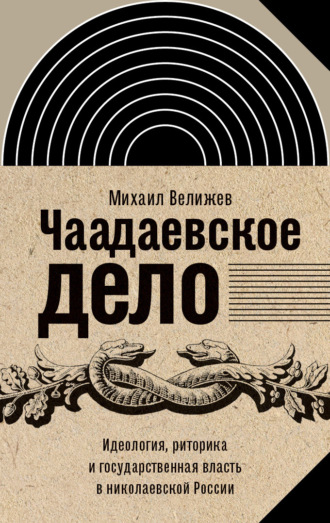
Полная версия
Чаадаевское дело. Идеология, риторика и государственная власть в николаевской России
Самые большие содержательные расхождения между чаадаевским и погодинским трудами касались двух ключевых вопросов: Реформации и славянского мира. Чаадаев, напомним, существование славян вообще не принимал во внимание, а протестантизм, как и православие, подвергал жесткой критике, поскольку считал эти церкви раскольничьими, разрушившими единство христианского мира. Между тем столь почитаемый Чаадаевым католицизм интересовал Погодина прежде всего с точки зрения роли, отведенной этой христианской конфессии во всемирном развитии человечества. Историк не скрывал своего скептицизма в отношении современного положения папы и спрашивал своих читателей: «так ли он уважается»[221], как прежде? Напротив, интерес историка к Реформации в этот период несомненен: и в «Исторических афоризмах», и в других его сочинениях протестантизм наделялся рядом позитивных и негативных черт. Реформация, с одной стороны, «содействовала к увеличению власти Государей» и «приблизила Духовенство к народам», но, с другой, породила «дух нетерпимости» и «дух противоречия»[222]. Отрицательные следствия лютеровской реформы, впрочем, нивелировались колоссальной ролью протестантизма в европейской истории Нового времени.
Исследование причин стремительного роста протестантского влияния, по мнению историка, позволяло «почуять Бога»[223], т. е. определить законы, согласно которым Провидение устроило исторический процесс. Погодин интерпретировал протестантизм как источник импульса к народному развитию, имевший аналогом в отечественной истории царствование Петра I. Этот тезис приводил его к экуменической по сути мысли о едином характере христианского вероучения, сохранявшего смысловое ядро вне зависимости от конфессиональных различий, которые отходили на второй план при разговоре о национальном контексте: «Напрасно говорят: Религия Лютеранская, Католическая, Епископальная. Гораздо правильнее: Религия Христианская Немецкая, Италианская, Английская»[224]. В отличие от Чаадаева историк не выносил эксплицитных суждений о том, какая деноминация лучше (за очевидным для него превосходством православной церкви над другими христианскими церквями), а стремился бесстрастно описывать и толковать ключевые события европейской истории, усматривая за ними действие Божественного Промысла.
Кроме того, уже в 1830-х гг. Погодин намечал контуры влиятельной идеи о ключевом значении славян для истории Европы и России, получившей свое развитие в следующее десятилетие. В одном из примечаний к «Очерку Европейской истории в Средние века. По Гизо» (1834) он упрекал французского историка, что, рассуждая о европейской цивилизации, тот не учел присутствия в ней «Славянских Государств»[225]. Вслед за Гердером Погодин утверждал, что славяне, в числе прочих народов, живущих за пределами Европы, «стоят теперь на нижних ступенях, но со временем, поднимаясь вверх, они может быть достигнут тех, на которых ныне стоят Европейцы»[226]. В «Исторических афоризмах» Погодин констатировал, что Европа всегда делилась на две несоединимые части – западную и восточную. Немцы и славяне, Рим и Константинополь, папа и патриарх, две римские империи, на развалинах которых возникли новые государства, составляли особенные миры, основанные на полярных принципах[227]. Славянский мир интересовал Погодина как с научной, так и с геополитической точки зрения – как возможный проводник внешнеполитического влияния Российской империи среди славянского населения других стран, своего естественного союзника.
Если, по Погодину, славяне только готовились выйти на историческую сцену, то Россия уже достигла цивилизационных успехов. К изданию «Исторических афоризмов» в 1836 г. Погодин добавил текст своей лекции «О всеобщей истории», произнесенной при вступлении в должность ординарного профессора Московского университета в 1834 г. и тогда же опубликованной в «Журнале Министерства народного просвещения». Здесь он без колебаний заявлял, что Российская империя составляла отдельное историко-культурное и политическое образование, которое «высится своею славою… над всеми»[228]. Еще ранее, в сентябре 1832 г. Погодин прочел в Московском университете лекцию «Взгляд на российскую историю», на которой присутствовал Уваров и которая была посвящена важности занятий прошлым в современной России. С одной стороны, текст содержал откровенно профетические утверждения вроде:
Отразив победоносно такое нападение, освободив Европу от такого врага, низложив его с такой высоты, обладая такими средствами, не нуждаясь ни в ком и нужная всем, может ли чего-нибудь опасаться Россия? Кто осмелится оспаривать ее первенство, кто помешает ей решать судьбу Европы и судьбу всего человечества, если только она сего пожелает?[229]
С другой – Погодин стремился обосновать тезис о высокой общественной значимости истории: «Российская История может сделаться охранительницею и блюстительницею общественного спокойствия, самою верною и надежною»[230]. Изучение прошлого позволяло научно «доказать» историософский тезис об особом благоволении Провидения к России – на это указывали чудесные факты из прошлого, обширный список которых приводил в своей лекции Погодин. Как следствие, даже столь кабинетное занятие, как работа над публикацией летописей, становилось идеологически полезным делом.
Пример Погодина показывает, что в середине 1830-х гг. правила идеологической игры допускали некоторые вольности. Во-первых, небольшую долю экуменизма, не ставившего, впрочем, под сомнение главенство православной церкви. Во-вторых, акцент на необходимости исследовать славянские древности. Разработка обеих линий в текстах Погодина сопровождалась открытым противопоставлением Европы и России и прямыми утверждениями о беспримерности исторической судьбы последней. Не менее существенно, что Погодин обосновывал свою политико-философскую программу, не выходя за круг предметов, находившихся в ведении профессора истории. В своих публичных выступлениях автору было проще оставаться в институциональных рамках имперской идеологии, если он писал как антиквар, обладавший амбициями историософа, но укрывавший их под покровом академического стиля. Отстраненный взгляд специалиста позволял Погодину, с одной стороны, выстраивать собственную философию истории, а с другой – избегать прямых политических аналогий, оставаясь в пространстве университетской науки.
IVВ середине 1830-х гг. академическую карьеру начали ученые, чьи научные интересы были непосредственно связаны с историей и культурой Восточной Европы. Так, в самый разгар чаадаевского скандала, 24 октября 1836 г., в первом Отделении философского факультета Московского университета состоялось собрание, на котором молодой О. М. Бодянский, один из самых известных в будущем русских специалистов по славянским древностям, прошел испытание на степень магистра. Один из двух вопросов, заданных ему на экзамене, формулировался так: «Важность Москвы в истории России»[231]. Ответ предусматривал двойную оптику: антикварную и философскую, поскольку от кандидата требовалось не только знание фактов, но и умение поместить их в правильную концептуальную рамку.
Рассказ Бодянского об исторической миссии московского единодержавия строился по карамзинской матрице и соответствовал доктрине официального национализма. Бодянский замечал: «До самого усиления В‹еликих› К‹нязей› Московских, Россия представляет собою жалкое зрелище»[232] из-за междоусобиц и постоянных внутренних раздоров, позволивших монголам с легкостью завоевать Русь. Только «В‹еликие› Князья Московские первые поняли, в чем заключается истинное бытие и сила какого бы то ни было государства»[233]: они устранили систему уделов, усыпили бдительность ханов и воспитали «в народе Русском ненависть к иноземному владычеству, которую много также поддерживала и Религия»[234]. Умело воспользовавшись внутренними смутами в Орде, они достигли своей цели: «Москва сделалась сердцем России, палладиумом ее силы и величия, центром народной независимости… Она краеугольный камень, на коем заложено и зиждется великое Царство Русское»[235]. Завершался ответ Бодянского признанием: «Без нее (Москвы. – М. В.), без мудрых ее Государей, не думаю, чтобы наше отечество скоро заняло то видное место в ‹нрзб› Европейских Государств, которое теперь с такою энергией, с такою славой за собой удерживает»[236].
Однако, отдав должное ритуальным формулам официального национализма, будущий магистр развернул рассказ в ином, уже не вполне уваровском направлении. Москве, писал Бодянский, «мы обязаны тем, что народ Русский в нынешнее время служит единственным представителем Славян пред прочими племенами Европы, представителем, к коему и остальные однородцы наши обращают свои жадные взоры и полагают в нем свои лучшие надежды»[237]. Таким образом, историческая миссия самодержавия раскрывалась в перспективе грядущего политического соединения всего славянского мира под эгидой России.
Заключительная фраза экзаменационного ответа служила прологом к диссертации Бодянского, которому после успешно сданного экзамена комиссия предложила следующую тему: «О народной поэзии славянских племен»[238]. 7 мая 1837 г. цензор М. Т. Каченовский, к тому моменту ставший ректором Московского университета, дал разрешение на напечатание первого крупного научного труда Бодянского[239]. Автор вновь строил повествование по принципу китайской шкатулки: тезис об актуальности славянских сюжетов для русской науки и политики был аккуратно помещен внутрь историко-философских рассуждений, близких имперскому национализму. Бодянский отталкивался от утверждения о всеобщем стремлении народов, в особенности европейских, к «самобытности»[240]. «Родное» всегда имело приоритет над «чужим», что, впрочем, не отменяло возможности заимствования, главным условием которого выступало соответствие импортируемого культурного продукта внутренним потребностям народа. Бодянский, вполне в духе Уварова, отвергал саму мысль о следовании по иному пути: «Прошла уже пора соблазнительных идей космополитизма; народы Европы перестали рабски копировать один другого или перекраивать себя по какому-нибудь образцу… прошла уже пора обезьянства»[241]. Обретение нациями собственной судьбы он аргументировал устройством мироздания, в котором Провидение предопределило каждому народу собственный маршрут[242].
Основная проблема заключалась в том, чтобы определить – по какому же, собственно, пути следует идти России? Где истоки ее «коренной жизни», которую русский человек может «чувствовать своим сердцем» и «желать своей волей»[243]? Самобытность, согласно Бодянскому, определялась оригинальной словесностью, «отражением стихий, составляющих бытие народа»[244]. Ученый словно реагировал на слова Чаадаева об отсутствии в России «поэтических воспоминаний прошлого»:
Но род человеческий слагается из народов, из коих всякой имеет свою Поэзию, потому что Поэзия прирождена народа; народ, какого бы он племени ни был, вовсе без Поэзии быть не может. …такой безпоэтичный народ – несбыточное дело: это не нуждается ни в каких пояснениях. Отсюда у каждого народа есть ему одному только свойственная Поэзия, как плод внутреннего его творчества, его поэтической способности[245].
Тезис о национальном духе, заключенном в литературе, скорее в простонародной, чем в высокой, был в то время конвенциональным, восходя к немецким теориям словесности начала XIX в. Пуанта Бодянского заключалась в другом: задача его труда состояла во включении славянской поэзии в круг сюжетов, связанных с обсуждением истоков русской идентичности. В диссертационном исследовании он идеализировал славянский мир и обосновывал мысль о необходимости его пристального изучения не как абстрактного предмета научных штудий, а как актуальной части отечественной культуры и национального характера. Тем самым Бодянский выступал не только в роли ученого, но и в функции политического мыслителя.
О развитии славянского элемента – в научном и идеологическом смысле – тогда же размышлял и М. А. Максимович, профессор русской словесности Киевского университета Св. Владимира, один из первых в России ученых-украинистов. В начале 1837 г. он выпустил книгу «Откуда идет Русская Земля», где вослед Ломоносову доказывал происхождение варягов от славян и тем самым вводил последних в сердцевину исторической легитимации русского самодержавия. Этот ход позволил Максимовичу связать древнюю историю с современностью:
Новая жизнь Русской Земли, с пришествием Руссов; началось Русское Православие; составилась Словенская грамота, книжный Словенский язык и преложение на оные Священных и Церковных Книг, на коих основалось и утвердилось Русское Просвещение в Киеве. ‹…› В нынешнее историческое Царствование возродилось общее стремление к самобытному и своеобразному раскрытию Русского духа во всех отраслях жизни, по собственной мысли и в своем виде[246].
Послесловие к труду Максимовича датировано 8 ноября 1836 г. Его отдельные выводы звучали как полемика с компаративным взглядом Чаадаева, отдававшего предпочтение Западу перед Россией:
И если несомненна «польза изучения Русской Истории в связи со Всеобщею», то это изучение должно-бы привести не к отрицанию нашей Древней Истории, а к открытию 1) того общего соответствия и подобия исторических явлений, с какими человеческая жизнь раскрывалась на нашем Востоке и Европейском Западе, 2) тех особенностей, с какими – в тех-же соответственных и однозначительных явлениях своих – человеческая жизнь здесь и там выражалась своим собственным, отличным образом[247].
Любопытно, что Уварову книга Максимовича не понравилась. В письме от 3 июня 1837 г. министр писал ее автору: «Я не думаю, что гипотеза о происхождении Руси, которую вы защищаете, могла бы согласиться с настоящими видами отечественной Истории»[248]. Уваров рассуждал как государственный чиновник: признание славянского генезиса русской власти вело к необходимости «собирания славянских земель» и пересмотру внешней политики России, ориентированной на соблюдение незыблемости европейских границ. Кроме того, официальная идеология подразумевала, что все успехи отечественной литературы обязаны своим происхождением мудрому попечению Романовых, подлинная история которых начиналась с правления первого императора – Петра Великого. Уваров замечал Максимовичу, что «трудно, кажется, между прочим, доказать, чтобы период от конца XIII до XVIII века был беспримерно-богатым проявлением Русской народности в нашей поэзии»[249].
Тем не менее правила игры не запрещали апологию славянских исследований в границах академической науки. В 1839 г. в «Отчете» о собственном ученом путешествии в Европу уже упоминавшийся Погодин представил Уварову масштабную панславистскую концепцию, предусматривавшую активную роль русской монархии в объединении славян, живших в разных восточноевропейских государствах. Политические амбиции историка оказались в итоге не удовлетворены, однако он продолжал активно заниматься славянскими древностями. В 1840-х гг. Бодянский стал одним из самых известных и востребованных специалистов по восточноевропейским языкам, фольклору и культуре. Он учился за границей, а затем, будучи уже профессором Московского университета, читал курсы, посвященные славянской истории. Максимович, несмотря на вынужденную отставку в 1841 г. по состоянию здоровья, продолжал плодотворно заниматься малороссийскими исследованиями – фольклором, древней словесностью и историей. Адепты панславистской идеи действовали по одной и той же схеме: они стремились приспособить интересовавшие их материи к ключевым формулам уваровской доктрины и тем самым добиться их авторизации согласно правилам идеологической игры. Благодаря этому ходу и несмотря на прохладное, а часто и откровенно враждебное отношение властей к идее объединения славянского мира, им удалось сделать восточноевропейскую культуру легитимным объектом научной рефлексии, обладавшим определенными геополитическими смыслами. Не случайно уже после смерти Николая I панславизм обрел популярность за пределами академической науки, став одной из самых влиятельных имперских идеологий второй половины XIX в.
VПервое «Философическое письмо» начиналось с тезиса о невозможности светской женщине, жившей в Москве, придерживаться церковных ритуалов и следовать религиозным предписаниям в быту. Дальнейшие рассуждения о непреодолимой дистанции, отделявшей Россию от католического Запада, были призваны истолковать утверждение, высказанное в зачине. Чаадаева интересовали условия исповедания христианского культа в повседневной жизни русского аристократа, однако предложенное им негативное решение расходилось с правилами игры официальной идеологии, с точки зрения которой роль православия в жизни подданных была безоговорочно высокой. Уваров мыслил православие как «национальную религию», благодаря которой крестьяне и дворяне становились одним целым, объединенным идеей служения монарху[250]. Между тем представители социальной элиты больше привыкли к французскому языку и культуре вплоть до того, что Священное Писание они часто читали на иностранном языке[251]. Задачу более глубокого знакомства дворянства с историей и практиками православия в 1830-х гг. решало несколько светских публицистов, самым успешным из которых был А. Н. Муравьев.
2 сентября 1836 г., в тот момент, когда Надеждин готовил к печати 15-й номер «Телескопа», киевский архимандрит Иеремия дал цензурное разрешение на публикацию книги Муравьева «Историческое обозрение богослужебных книг греко-российской церкви». К тому моменту автор уже получил известность как духовный писатель и историк. В 1835 г. вышли его «Письма о богослужении восточной церкви», много раз затем переиздававшиеся и ставшие интеллектуальным светско-богословским бестселлером середины XIX в. В начале 1836 г. Муравьев напечатал в типографии III Отделения исторический обзор «Путешествие по Святым местам русским» (Троицкая Лавра, Ростов, Новый Иерусалим, Валаам), встретивший положительный прием в критике. Как следствие, в феврале 1837 г. автора избрали действительным членом Российской академии за «заслуги в области российской словесности». Популярность Муравьева объяснялась двумя характеристиками его писательской манеры: во-первых, он стремился к «„утверждению православия“ во всей его полноте современной жизни», во-вторых, его стиль сочетал «летописную манеру» Карамзина с «сентиментальной настроенностью» Шатобриана[252].
«Историческое обозрение богослужебных книг греко-российской церкви» было лишено чувствительной интонации, заметной в отчетах Муравьева о его религиозных паломничествах. Автор «Исторического обозрения…» не сомневался в существовании богатой памятниками русской древности и ставил задачу описать исторический генезис богослужебных книг. Муравьев начинал рассказ с крещения Руси, когда в результате конфессионального выбора, собственно, и возникла Русь/Россия. Он устанавливал преемственность между практиками первых веков христианства и современным ему православным ритуалом – например, в месяцесловах[253], в чине коронации государей[254] или в «благодарственном молении Господу Богу за освобождение России от нашествия галлов и с ними двадесяти язык»[255], связанном с победами русской армии в 1812 г. Муравьев был убежден, что разнообразие отечественной духовной литературы свидетельствовало о «благодеяниях Божиих, явленных над Россиею»[256]. Вся его писательская деятельность была призвана актуализировать историческую традицию, которая становилась неотъемлемой частью настоящего.
Муравьев открывал светскому читателю ритуализованную практику церковного благочестия. Функция «Исторического обозрения…» заключалась в том, чтобы наполнить глубоким историческим и религиозным смыслом значимые элементы повседневного быта образованного православного человека: чтение духовных книг и участие в богослужениях[257]. Муравьева занимал тот же вопрос, что и Чаадаева: как в период общеевропейского кризиса, связанного с резким понижением политической роли христианства после Великой французской революции, восстановить авторитет церкви и воздействовать на социальную жизнь, стремясь реанимировать религиозные ценности. Однако Муравьев двигался в прямо противоположном и гораздо более легитимном направлении[258]. Его «Историческое обозрение…» было наполнено разными историко-филологическими сведениями и фактами церковной жизни, что не мешало тексту выполнять осязаемую идеологическую задачу – сакрализации действовавшего политического порядка, основанного на идее православной и самодержавной народности. Собственно, сочинение Муравьева служило наглядным пособием для людей, желавших ввести принципы уваровской триады в собственную повседневную жизнь. Таким образом, правила идеологической игры не исключали рассуждений о социальных валентностях христианства, однако делать это следовало лишь в рамках, заданных официальной доктриной национализма, внутри которых христианство отождествлялось исключительно с православием.
VIВ первом «Философическом письме» Чаадаев ошибочно интерпретировал русскую историю, были убеждены многие свидетели скандала 1836 г., начиная с Пушкина[259] и заканчивая неизвестным московским свидетелем скандала, писавшим: «Досадил, обидел, оскорбил меня! глубоко меня озлобил – так глубоко сколь глубоко я Руский – а все люблю его за умственные и нравственные его качества, а за ненависть его к рускому всему злоблюсь»[260]. Чаадаев оспаривал каноническую версию исторического нарратива, созданного и популяризованного Карамзиным[261]. Не случайно А. А. Краевский в качестве эпиграфа для своих «Мыслей о России» избрал фразу из «Истории государства Российского». Впрочем, карамзинский труд, чья общественная репутация была крайне высокой, к середине 1830-х гг. уже неоднократно подвергался нападкам по целому ряду параметров – фактической точности (М. Т. Каченовский, И. Лелевель, Н. С. Арцыбашев) и концептуальной адекватности (Н. М. Муравьев, Н. А. Полевой). Правила игры не исключали критики «Истории…», но ни о какой официальной поддержке нападок на труд покойного историографа речь идти не могла.
Однако именно в 1836 г. описанная тенденция претерпела значительные изменения. В октябре этого года, буквально накануне чаадаевского скандала, Н. Г. Устрялов, молодой и амбициозный петербургский историк, пользовавшийся покровительством Уварова, защитил и напечатал докторскую диссертацию «О системе прагматической русской истории». Перед Устряловым стояла задача сформулировать официальную и идеологически корректную версию русского прошлого, способную стать основой для университетского и гимназического курса. Он предложил для нового метода броское название – «прагматическая русская история». Под «прагматическим» методом автор имел в виду определенный тип историографического повествования: «объяснение влияния одного события на другое, с указанием причин и следствий»[262]. Прагматический подход предполагал, что русскую историю надлежало рассматривать автономно, вне ее связи с историей европейских стран и лишь затем сопоставлять их[263]. Именно так Уваров мыслил развитие России: целью служило достижение успехов западной цивилизации, однако обрести их надлежало особым, неевропейским путем. Более того, Устрялов включил в свою историю подробный рассказ о Великом княжестве Литовском, которое он считал исконно русской территорией, основным соперником Москвы в деле объединения русских земель в XIV–XV вв. Вывод историка прямо диктовался политическими соображениями, связанными с новыми вызовами по интеграции Царства Польского в пространство Российской империи после восстания 1830–1831 гг.[264]
Главным соперником Устрялова был Карамзин, поэтому критика «Истории государства Российского» занимала в его диссертации центральное место. Внешне Устрялов отдавал должное Карамзину и называл его автором первой русской «прагматической» истории[265]. Однако при этом «История государства Российского» с первых страниц устряловского сочинения объявлялась устаревшей, не соответствующей «потребностям времени» книгой[266]. Сам Устрялов стремился соединить «любовь к древности» и «философскую историю». Он писал о двух «условиях», необходимых для достижения «высокой цели Истории»: «самое подробное, верное и отчетливое знание фактов» и «стройная система, где каждое явление было бы на своем месте, как следствие предыдущего и причина последующего»[267]. Выполнение первого из условий зависело от умения историка анализировать источники, второе же требовало особого «философского» взгляда[268]. Очевидно, что метод Устрялова в основных чертах восходил к западноевропейским образцам антикварно-философской историографии и, по сути, мало чем отличался от подхода, который исповедовал Карамзин, за исключением общей последовательности повествования, новой классификации источников, идеологической прагматики текста и отдельных выводов (о хронологии отечественной истории или о значении Смутного времени[269]). Таким образом, полемика Устрялова с Карамзиным носила скорее позиционный, нежели содержательный характер: историку, предлагавшему авторитетную историографическую концепцию, следовало четко артикулировать отличие собственной теории от взглядов классика жанра.




